Н.П. Вырыпаев

Откуда есть пошёл
наш род…
2011 г.

Вместо предисловия
ПОНЯВ СЕБЯ, ПОНЯТЬ РОССИЮ
Недавно я согрешил, купил в киоске еженедельный, полноцветный, иллюстрированный журнал «Загадки истории», №26 за 2013 год. Хотя давно знал: открывая «загадку», найдешь кучу враков. Увы, видно, я отстал от жизни: такого вранья в исторических журналах, по-моему, еще не печатали. Написано черными по белому, будто не 17 марта, а 14 апреля 1921 г. Красная армия предприняла решающий штурм Кронштадта. И якобы мятежники «вместе с добровольцами» из армии Врангеля (!) «отбили все попытки штурма». «При этом был убит и сам Тухачевский». «Из всех сорока тысяч штурмующих на материк в панике отступили лишь восемь тысяч человек. Это был настоящий разгром, услышав о котором, Ленин слег с инсультом» (с. 29). В одном абзаце ни слова правды. Такова и вся статья.
Единственное объяснение тому, зачем это печатают, у меня вот какое: из русских вышибают (а у большинства уже вышибли!) историческую память. У нас Солженицын оказался значимее Льва Толстого, Столыпин – Витте, Фоменко и Носовский – Ключевского. На «рынке» докторских и кандидатских диссертаций – исторические труды по стоимости самые дешевые. Введите в поисковую строку браузера два слова «куплю диссертацию», и сами убедитесь: дешевле исторических только диссертации по специальности «право». Разве это не доказательство того, что Россия превратилась в страну людей с перевернутым сознанием и ампутированной памятью? Понимаете? Уже превратилась! Рынок, как это и должно, отреагировал на это первым.
Тем дороже в мире книжности встреча с умным, честным, откровенным, глубоким произведением истории. Таким стала для меня электронная версия рукописи известного пензенского краеведа Николая Петровича Вырыпаева «Радости и слезы поколений. Откуда есть пошел наш род…». Книга о поиске в архивах и по книгам следов жизни, труда и ратных дел нескольких поколений Вырыпаевых и Матвеевых, по линии отца и матери. Его отец – человек известный: лермонтовед, один из немногих, благодаря которому музей в Тарханах приобрел мировую известность. Но и Матвеевы могли стать знаменитыми. Дед Николая Петровича, Семен Андреевич Матвеев, прапорщик-артиллерист, стал после революции командиром одного из полков легендарной Пятой армии и погиб под Иркутском.
Книга Вырыпаева интересна не только содержанием и редкой для современных повествователей чистотой языка. Подкупает добросовестность, гражданская честность исследователя, постоянная готовность к проверке факта с разных точек зрения, с «нашей» и «не нашей» стороны. Это и книга воспоминаний, и увлекательно написанный путеводитель по архивным фондам, и серьезное научное исследование, с критическим анализом документов, ссылочным аппаратом, комментариями и пояснениями. Наконец, труд Николая Петровича это – поучительная история поиска, заблуждений и наиболее типичных ошибок при работе с источниками по выявлению родословных.
Вот как надо писать исторические труды! Избегая желтизну «сенсационности», так свойственной нынешней желтушной «истории», и не пряча своих симпатий и антипатий за казенными академическими штампами.
Жаль, что мы до сих пор не увидели напечатанной книгу о «радостях и слезах» русского человека от времен Петра Великого до нынешних непочтенных времен. К счастью, есть интернет, а в интернете замечательный сайт «Посурье» (http://posurie.narod.ru), созданный пензенцем, неугомонным туристом и прекрасным фотографом Олегом Авдеевым. На этом сайте каждый теперь может прочесть труд Н.П. Вырыпаева и убедиться в том, о чем говорилось выше. Данный случай – убедительное подтверждение того, что в нынешний век «интернет-цивилизации» даже историк-любитель имеет неплохие шансы подняться до уровня крепкого профессионала.
Из книги Н.П. Вырыпаева, из практики других краеведов видно, что наибольшую трудность вызывает поиск родословной в центральных архивах. Например, в Российском государственном архиве Древних Актов (РГАДА) переписные (ландратские) книги и ревизские сказки (фонд 350) относятся к числу наиболее востребованных дел. Недавно введен даже лимит на их выдачу в читальный зал: одно дела в одни руки, что крайне неудобно, особенно для приезжих исследователей. Но и сотрудников архива можно понять: из-за высокого спроса они просто не успевают выдавать, проверять сохранность и возвращать на полки толстенные тома документов такого рода. А главное, большинство ведь ищет свою родословную наугад. Мой совет начинающим: чтобы сэкономить время, перед тем как пойти в архив, прочтите книгу Вырыпаева, из нее станет ясно, где и что следует искать в первую очередь и какие у вас шансы на успех.
По большому счету Николай Петрович описал не столько свою родословную, сколько историю России глазами своих предков, чембарских крестьян. И находил в них качества, из сплетений и суммы которых складывался Народ. Описал без фантазий и сентиментального приукрашивания его быта. Методологически путь автора представляет собой попытку познания от частного к особенному и от особенного к общему. Она оказалась плодотворной настолько, что теперь изучение истории пензенского крестьянства трудно себе представить без знакомства с трудом Н.П. Вырыпаева.
«Самый худший вид рабства – невежество, поскольку оно, сидящее внутри нас самих, и есть господин, определяющий и твои поступки, и твои помыслы. Не всем дано освободится от его власти: многие становятся добровольно жалкими рабами невежества». Эта афористичная мысль приведена из книги «Радости и слезы поколений». Мысль человека, прожившего долгую суровую жизнь, но сохранившего свежую, юношескую чистоту души. Каждая глава его книги – словно веха на пути постижения идеала Справедливости и Правды, на примере истории одной семьи. И о том, как много может рассказать её история о бытие и нравах изменчивых времен!
Михаил Полубояров.
С благодарностью предкам,
с добрым напутствием потомкам:
придя в сей мир, не во гневе оглянись назад.
Откуда есть пошел наш род…
От автора
Начиная работу над этими записками, я ставил перед собой скромные задачи. И заголовок этим запискам принял тот, который ранее кем - то уже использовался. Записки предназначались для родственников, и он имел оттенок некоторой интимности. Но постепенно записки переросли ранее задуманного, и заголовок уже не отвечал их содержанию. Требовалось найти им новый. А он (старый), неистребимый, всем моим родным за 17 лет ставший привычным, превратился в подзаголовок этих записок.
Записок о разысканиях и исследованиях, по архивным документам, о наших пращурах и нашей Родине. Записок о легендах и преданиях одной семьи, рассказанных мной автором – Николаем Петровичем Вырыпаевым, сыном Петра Андреевича и Ольги Семеновны Вырыпаевых, внуком Андрея Ивановича и Евдокии Николаевны Вырыпаевых и Семена Андреевича и Татьяны Егоровны Матвеевых
Трудно было решиться засесть за эти записи, поскольку ясно понимал, какая тяжелая работа предстоит. Ведь это не только непростая работа, но и трудный перебор и выбор, ибо и в этом деле справедливы слова: «Никто не может объять необъятное».
Жизнь даже одного человека – это целая вселенная.
И, наконец, трудно отворять темные, старые ставни памяти и, стирая пыль и копоть времени с оживающих образов прошлого, сделать так, чтобы скрип ржавых петель этих ставен, и эта пыль, и эта копоть не отбили охоту одолеть сие чтиво у всех, кто на чтение его решится.
При этом автор не должен грешить против истины и быть всегда верным великой богине – Достоверности.
Но я надеюсь, они поймут и простят за неизбежные огрехи меня, одного из многих, кто жил и живет на этой земле, в ком природа исполнила задуманное и завершает жизненный цикл еще одной человеческой особи. И наградой мне во всех этих записях будет сознание того, что память и есть то, что делает человека Человеком.
Как родились эти записки? Что за блажь для человека, не только не претендующего на писательство, но и не любившего писать письма и дневники, отдав им должное в детстве и юности? Начались они с малого. Толчком им стала однажды долгая беседа с детьми, и старшая дочь Валентина уговорила меня решиться записать то, что я помню.
И вот теперь я в третий раз вновь приступаю к этому делу (2000 г.), понимая, что пора!
За время работы над этими записками накопилось много материалов, возникает необходимость обработки нового и переработки старого.
И неожиданно обнаружилось странное свойство этих самых записок: они имеют свою собственную жизнь и свою собственную, никем неистребимую логику. Одним словом, они имеют свой только им присущий характер. Это я почувствовал слишком поздно и не сумел переломить его. Но может быть к лучшему?
Прежде всего, надо сказать, что форма записок должна давать свободу в изложении, и в понимании изложенного.
Вот это обстоятельство и побудило выбрать в качестве формы не мемуарную, строгую и скучную последовательность, а форму свободного изложения, нечто вроде эссе на темы прошлого семьи, рода, родного края, страны, на темы миропонимания.
Все будет в этих записках: и легенды рода, и строгая документальность прошлого, и мысли того, кто пишет эти записки, и попытки воскресить образы прошедших дней.
Те, кто будет их читать, могут выбирать по желанию то, что нравится.
ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
До самого последнего времени я не чувствовал, что лет-то прожито уже много. Шел и шел по жизни, как вверх по тропе горного перевала, когда каждый взгорок только открывает и новые горизонты, и новые преграды, и новые возможности. И не было видно конца этому пути, только далеко-далеко позади, была видна дорога со всеми извивами и колдобинами.
Но теперь-то я взошел на гребень этого перевала, мне виден и пройденный путь, и крутые мрачные скалы внизу, впереди.
Груз лет. Каждый несет его по-своему, но никто и никогда не расстанется с грустной памятью о прошедших лучших днях детства и юности.
Воспоминания об этом и согревают душу, и бередят ее раны, и зовут исполнить долг памяти прошлому, свидетелем которому был.
Много лет назад в Семиключье Шемышейского района, 10 ноября 1993 г., в 19.00 московского я написал вот эти строки:
«И вот я сейчас сижу один-одинешенек в дальней лесной заимке, погруженный в воспоминания, как священную лампаду, разжигаю печь, мчусь памятью в далекую юность, и в отсветах огня вижу и себя, почти мальчишку, и первую свою любовь. И словно снова мы молча сидим у пляшущего огня печурки, и наши плечи касаются, и в этих касаниях для нас и боль, и сладость бытия. Где это все теперь? Все проходит, но становимся ли мы счастливей при этом?»
Так начал тогда я свои записи.
Первые мои детские воспоминания, как определила впоследствии моя мама, надо отнести к моему возрасту около двух лет.
Связаны они с грустным для меня. Жили мы тогда в маленькой деревне Шафтель. Мой прадед Егор Мельников принес, для меня в подарок, замерзающую птичку. Она, к моей радости, отогрелась и ожила, но кот ее загнал под печку, поймал и съел. Горе мое было таким, что я это запомнил на всю жизнь. И в печальных отсветах этого мальчишеского горя остался живым мой прадед. Бородатый, в шубняке красной дубки, с бадожком и птичкой в руках около меня, мальчишки, лепящего на бумагу переводные картинки на подоконнике нашей деревенской избы. Он, прадед, был в это время уже полуслепой и удивительно, как он сумел сделать этот подарок-птичку для меня.
Вскоре дед Егор умер в возрасте более 90 лет. Умирал, по рассказам моей мамы, обстоятельно, по-крестьянски. Собрал всех родных, соседей и друзей, простился со всеми, благословил и отошел в небытие.
Он застал в довольно зрелом возрасте крепостное право, и хотя он был приписан к государевой экономии, т. е. был не крепостным, а так называемым экономическим крестьянином, все нравы крепостного права были на его живой памяти. Моя бабушка помнила и рассказывала, что он имел хороший голос, знал много песен, ловко плясал и, как он сам рассказывал, соседский барин-помещик приглашал его повеселить. Деду приходилось соглашаться. Веселить, так веселить, может, и отплатит чем-то.
Прабабушка не дожила до такой глубокой старости. О ней рассказывала моя бабушка Татьяна Егоровна, как она была недовольна тем, что изба стала топиться по белому, т. е. стала иметь трубу, а не как ранее топилась по черному – весь дым и гарь шли в избу. Она родилась и прожила почти всю свою жизнь при свете лучины и в курной избе; в новой, белой избе ей казалось все время холодно.
Я застал такие избы в соседнем селе Языково. Перед войной и вскоре после войны они еще там были. Но это село живо, а деревенька моего детства, Шафтель[1] исчезла с лица земли. И только как памятник моему прадеду Егору осталась одна-единственная яблонька на месте нашего сада, посаженного им давным-давно. Да свою неумолчную, вечную песню поёт и шепчет ключ в овраге.
Однажды, вскоре после войны, в Лермонтово приехала большая писательская делегация. В ее составе был Илья Эренбург. Будучи любителем керамики, он поинтересовался гончарным ремеслом в ближайших селах и пожелал увидеть все своими глазами. Моя мама работала в это время завучем в лермонтовской школе. Ей и было поручено сопровождать Илью Григорьевича в село Языково, где еще занимались «горшешным делом», и где она сама знала «горшешников». Эренбурга, недавнего жителя Парижа, убогий быт крестьян в языковских курных избах потряс. Он написал об этом в мемуарах «Люди, годы, жизнь». Там на одной странице поездка с мамой в Языково, а на соседней – встреча с Эйнштейном. Как тесны мир и времена в лукавых шуточках Фортуны!
В моей детской памяти о жизни в Шафтели есть еще несколько страничек. Школа, в которой учительствует моя мама… Ученики этой школы и я сижу вместе с ними и рисую… Бездонный овраг, в снегу которого я утонул и долго беспомощно барахтался, пока меня, как котенка, за шиворот не вытащил сосед… Празднование 1-го Мая на околице, как потом сказала мама, Нижних Полян, с пением гимна и стрельбой из ружей… Слепой и рябой гармонист, который, играя, положил голову боком на гармошку и слушает, что она там говорит.
Еда, которая осталась в тех детских воспоминаниях, никогда более не повторялась: кулага, солодушки, калинники, рубец и кишки с гречневой кашей, запеченные в печке, сычуг или требуха с хреном.
Долгие зимние вечера: прядение шерсти и кудели (кудель – наиболее тонкое конопляное волокно), ткачество на домашних ручных ткацких станах. И это не ради удовольствия: овца, конопля и лен одевали крестьянина.
С льном и коноплей у крестьян во все времена были особые хлопоты: посеять их – это еще полдела. Летом бабам и подросткам нужно было пройти по выросшим посевам конопли и вручную «брать посконь» – мужское растение конопли, дающее более тонкое волокно. А осенью убрать, обмолотить коноплю-матку на конопляное семя. Затем её, обмолоченную, и посконь ещё надо замочить или расстелить на лугу под зиму. Весной, когда они хорошо высохнут, обмять и обтрепать на мялке. Посконное волокно пойдет на носильные вещи – рубахи – и постели. А конопляное волокно пойдёт на холщёвое суровьё, на веревки и канаты. И только после всего этого, много раз прочёсанные большими деревянными гребнями, они будут готовы к прядению. Большой, высокий гребень устанавливали в донце, горсти кудели начёсывали на гребень, и зажужжит, запоет веретено в руке крестьянки, превращая начес на гребне в нить.
Лён и конопля были обычны в крестьянском обиходе. С громадным трудом всё это превращалось в одежду крестьянина. По будням ходили во всем домотканом, а из «материи» фабричной выделки – по праздникам. Зимой – в красной дубки шубняке и валенках. В раздополье «обували быки и лошади» – в сапоги, полсапожки и кожаные калоши. Спали (постель) тоже на домотканом: на холщевых подушках и простынях, тюфяках набитых соломою, накрывались ватолами – домоткаными двойными шерстяными одеялами. Это – со слов бабушки. В моё же время пуховая перина, стёганое сатиновое одеяло, перовые подушки, подушечки – думки, подзорники на кроватях были украшением почти всех горниц.
А рассказанное мне бабушкой и бывшее ранее в общем обиходе, определялось натуральным хозяйством – им жил крестьянин.
Все это пришло из далекого далека и на моих детских глазах растворилось в сумерках истории. И всё это припомнено мной уже после – во взрослом возрасте.
Все мое младенчество и детство согреты теплом, светом и лаской нашего Светлого Ангела – бабушки. Бабуси, дорогого и, как теперь понимаю, незаурядного человека, мудрой, удивительно талантливой, энергичной, святой женщины, простой крестьянки, нигде и никогда не учившейся, но и в глубокой старости (за 90 лет) удивлявшей точными и глубокими оценками прочитанных ей самой новых книг, и когда я удивлялся этому, она только лукаво улыбалась. «Образование ума не прибавляет, – много раз повторяла она, – а только его оттачивает; если его нет, то и оттачивать нечего – всё будет впусте. Ум человека – как шкатулка с добром: и ученик, и учитель трудятся открыть ее. Откроют: у одних в ней драгоценности – только отмой да почисть их, а у других, кроме пауков, клопов да тараканов, нет ничего. И сколь ни черпай этих драгоценностей из одних, и сколь ни гони этой нечисти из других, ничегошеньки-то в них не убавится, а станет этого только больше». Или ее другой образ: «У одних под черепушкой губка, а у других камень-голыш. И знания, и образованность на голыше живой росой не останутся. Солнце взойдет, голыш и обсохнет». Сколько раз я убеждался в мудрой справедливости этих слов!
Мир праху твоему, бабуся. И я уповаю и молю, чтобы в дальнем твоем потомстве отразились и были оценены твои замечательные черты благородства, честности, трудолюбия, светлого саркастического ума и таланта.
А у меня в ушах до сих пор звучит ее голос в грустных прозрачных звуках песен «Ноченька», «У зари-то, у зореньки», «Березка», «Чайка» – «Вот вспыхнуло утро…», которые маленьким я пел вместе с ней, сидя у нее на коленях.
После окончания учебы папы в Саратовском университете мы все вместе должны были ехать к месту его первой работы как специалиста, в поселок Арти на Урал. Поехали зимой. Это была моя первая далекая поездка. До сих пор живут в памяти степь, снега, снега и снега, в ушах скрип саней, понукание лошадей извозчиками, фырканье обмерзших лошадиных ноздрей. На остановках потные спины и морды лошадей, увешанные торбами, запах навоза и сена, и его хруст в зубах лошадей.
Наконец, после долгого пути отец показал: «Вон, гляди, там идет поезд». И я впервые увидел далеко-далеко белый дымок паровоза и длинную вереницу красных вагонов.
Все это осталось в свежей мальчишеской памяти, а там далеко в деревне осталось младенчество и незаметно началось другое детство. Мне шел четвертый год.
АРТИ. УРАЛ ТРИДЦАТОГО ГОДА
Арти – маленький заводской поселок на левом берегу большого пруда на речке Артинке. На правом берегу сосновый бор с корабельными неохватными, высоченными соснами. Это старинный уральский поселок в лесной глухомани, в 50 км от железнодорожной станции Красноуфимск.
 Весь поселок живет
заводом. Завод знаменит, и его знает вся Россия. Завод делает косы. И это
хорошо знают даже маленькие обитатели поселка. Узнал и я. Все детские игры
поселковых ребят так или иначе привязаны к этому заводу. И мама удивляется моим
фантазиям по поводу моей работы на этом заводе, но ведь все ребятишки, еще
бесштанные, считают себя его работниками. Так считаю и я. И со слезами на
глазах убеждаю, что работаю на этом заводе, что работаю по ночам, когда все в
доме спят, а я иду на завод, поэтому они и не знают об этом. И разве они не
видели, что на моей куртке много окалины, потому что я таскал косы. А получку я
отдаю соседскому мальчику, потому что его отца задавило на этом заводе. И все
так делают. Попытки разоблачить мои фантазии приводят к слезам и обидам на всех
взрослых. Мама потом часто напоминала об этом и удивлялась подробностям,
которые я приводил, горячо убеждая всех в своей якобы правде.
Весь поселок живет
заводом. Завод знаменит, и его знает вся Россия. Завод делает косы. И это
хорошо знают даже маленькие обитатели поселка. Узнал и я. Все детские игры
поселковых ребят так или иначе привязаны к этому заводу. И мама удивляется моим
фантазиям по поводу моей работы на этом заводе, но ведь все ребятишки, еще
бесштанные, считают себя его работниками. Так считаю и я. И со слезами на
глазах убеждаю, что работаю на этом заводе, что работаю по ночам, когда все в
доме спят, а я иду на завод, поэтому они и не знают об этом. И разве они не
видели, что на моей куртке много окалины, потому что я таскал косы. А получку я
отдаю соседскому мальчику, потому что его отца задавило на этом заводе. И все
так делают. Попытки разоблачить мои фантазии приводят к слезам и обидам на всех
взрослых. Мама потом часто напоминала об этом и удивлялась подробностям,
которые я приводил, горячо убеждая всех в своей якобы правде.
Мы живем в большом деревянном доме. Внизу кухня, подклеть и другие нежилые помещения, жилье наверху, там просторно, несколько комнат. Наверх ведет крутая лестница, ступени ее окантованы железом. Дом капитальной уральской постройки.
У хозяйки взрослый сын. У него большая сабля, ремни на груди, гимнастерка и наган, из которого он однажды нечаянно выстрелил. И все смотрели: насквозь прошла пуля через стену или там осталась?
Еще у хозяйки есть дочь Агния, мне ровесница. Моя вихрастая голова с винтом закрученными волосами на лбу произвела на нее потрясающее впечатление: «Мама, мама, смотри, мальчик с дырочкой», – вопила она, указывая на мой круто закрученный вихор.
Теперь он вылинял. И следа нет. Мы с Агнией подружились и тоже смотрели след от пули и еще тайком вынимали саблю. Это было очень страшно!
Мы приехали в Арти не одни. Папа был очень дружен со своим товарищем. Они вместе учились в чембарской школе, ленинградском институте, саратовском университете. И вот теперь вместе со своими приехали на свою первую работу. Мы живем вместе одной дружной семьей. Места в доме хватает всем.
Пришла бурная, дружная весна, и папа повел меня на плотину показать паводок. Мы стояли над сливом плотины. Он был открыт, вода вырывалась из него бешеным, грохочущим потоком и, описав огромную дугу, падала в глубину артинского ущелья. Рев её заглушал голоса, и разговаривать мы могли только криком.
Стоять на плотине было жутко. Она сотрясалась от напора воды. Туман и брызги висели над телом плотины, и вся она была от них мокрая. Казалось, что плотина, как огромный корабль, сорвется с якоря и поплывет по течению вместе с нами.
Но мастера Урала с додемидовских времен знали свое дело. Сто лет стояла плотина до нас и, наверное, стоит доныне. А картину подобного буйства воды я видел потом только в горах, в тающих ледниках Кавказа.
Весна сорвала и поломала лед, открыла пруд и прелести соснового бора. Туда мы переплывали на лодке, но когда поднимался ветер, одолеть трехверстовую ширину пруда было опасно.
Однажды нас с мамой застиг на середине пруда шквал. Поднялись с белым пенным гребнем волны. Лодку стало захлестывать. Мама страшно испугалась. В волнах на лодке мы с трудом выгребались. Когда причалили к берегу и мокрые вылезли из лодки, мама сказала, что нам сильно повезло. Могло быть значительно хуже.
Бор дарил нам сказочное количество ягод, грибов, дичи. В нем водились рыси. Папа стал заядлым охотником и с азартом рассказывал о тетеревиных токах, охотничьих засидках, своих охотничьих трофеях, опасностях встречи с потревоженной рысью и объяснял, почему лыжи у него подбиты снизу мехом оленя – камусом.
Чучела тетеревов-косачей стали моими постоянными игрушками.
Уток на пруду – черная туча, как грачей.
Однажды папа с братом своего товарища пустились на лодке охотиться на уток. Лодка на мелководье в камышах черпанула бортом и пошла ко дну. Горе-лодочники стояли по горло в воде, подняв кверху ружья, и Иван (Ванюшка) стал горячо уговаривать отца выйти из лодки первым, поскольку он в сапогах, а Ванюшка в ботинках. Комизм положения был понят и оценен позже. А папин веселый рассказ лег на мою память.
С прудом, грибным и ягодным бором связаны лучшие артинские воспоминания нашей семьи, пока еще маленькой.
Лето в Артях теплое, ласковое, и я с моей подругой носимся взапуски по двору, улице и по всему дому. Бегаем и вверх-вниз по лестнице. Бегу, спотыкаюсь, с размаху падаю, ударяюсь подбородком об окованную ступеньку – и первая в жизни большая рана, как второй разинутый рот: на моем подбородке кровь, боль и боязнь наказания за сделанное, но все же испуг мамы я запомнил больше, чем все остальное, с этим связанное. А шрам на всю оставшуюся жизнь.
Пришла осень. Легла ранняя зима. В один из снежных морозных дней папа повел меня через весь поселок, к большому каменному дому, стоявшему на взгорке. В окне этого дома мы увидели маму, которая показывала какую-то закутанную куклу, а папа говорил при этом: «Вот, смотри, это твоя сестренка». Семья наша стала больше. К нам приехала бабуся.
Вскоре наше пребывание в Артях закончилось. Мы покидали поселок. Недолог был срок жизни там, но надолго остались в моей детской памяти запах и вкус пирогов с рыбой, земляничные и грибные ковры в бору, краснобровые, вороные с синим отливом тетерева-косачи, удивительные уральские слова: пимы (валенки), пикули (огурцы), шаньги (лепешки, испеченные, как ватрушки, но со сметаной вместо творога), подружка Агния и бабушка с удивительным уральским прозвищем Утиха, и вкус уральской жвачки – «серы» во рту.
Жевать «серу» – специфическая на Урале и в Сибири привычка. «Сера» делается из живицы хвойных деревьев. Заготавливали помногу, бочонками. Жвачка эта – «сера», как теперь говорится, экологически чистая и, кроме пользы, для жующего она ничего, по-видимому, не дает.
ЩЕПОТЬЕВО
Дорога! Дорога!! Дорога!!!
Ты нам достаешься от беса иль Бога?
Российский раздрай и тревога.
И этого вдоволь, и этого много.
Дорога! Дорога!! Дорога!!!
Летом мы отправились в родные места всей семьей. Я уже по-другому воспринимал поездку по железной дороге. Прежде мы ехали зимой, и я мало что видел из окна поезда. Но теперь...
Железная дорога тех времен была удивительной. Хотя после гражданской войны и разрухи прошло уже много времени, следы всего этого еще были и создавали особый быт, особый, почти нереальный фон. Комфорт нынешних фирменных поездов тогда показался бы сказкой.
 Паровозы, ходившие тогда,
были похожи на такс: приземистые, с несоразмерно большими колесами, со странной
конструкции трубами и сопением, похожим на одышку старого человека. Но самым
удивительным изобретением того времени были товаро-пассажирские поезда с их еще
более удивительным, бытовавшим в народе названием «Максим Горький» (по имени локомотивного
депо в Сталинграде). Что за смысл, вкладывался в это название, сообразить
невозможно. Это были составы из нескольких ободранных, видавших виды
пассажирских вагонов и нескольких товарных вагонов-теплушек, приспособленных
для перевозки людей. Тянулись по дорогам страны эти поезда с черепашьей
скоростью. А на станциях они пассажирами штурмовались с таким рвением и напором,
от подножек до крыш и любых выступов на них, что диву даешься, почему эта толпа
и эти вагоны остались целы.
Паровозы, ходившие тогда,
были похожи на такс: приземистые, с несоразмерно большими колесами, со странной
конструкции трубами и сопением, похожим на одышку старого человека. Но самым
удивительным изобретением того времени были товаро-пассажирские поезда с их еще
более удивительным, бытовавшим в народе названием «Максим Горький» (по имени локомотивного
депо в Сталинграде). Что за смысл, вкладывался в это название, сообразить
невозможно. Это были составы из нескольких ободранных, видавших виды
пассажирских вагонов и нескольких товарных вагонов-теплушек, приспособленных
для перевозки людей. Тянулись по дорогам страны эти поезда с черепашьей
скоростью. А на станциях они пассажирами штурмовались с таким рвением и напором,
от подножек до крыш и любых выступов на них, что диву даешься, почему эта толпа
и эти вагоны остались целы.
С диким напором, истошными криками, воплями и гвалтом эта толпа должна была или повалить вагоны, или, затоптав друг друга, сама полечь под колеса поезда. Особенно страшны были ночные посадки: на станциях не было электричества, и перроны освещались двумя, редко больше, висящими высоко на столбах по краям платформы, калильными керосиновыми фонарями.
Платформы низкие. Подножки вагонов высокие. Сорваться под колеса вагона в сумерках убогого освещения ничего не стоило. Ужас этих посадок и пересадок пережили, наверное, все дети того времени.
На станциях были толпы беспризорных ребятишек, грязных, оборванных, голодных, жалких, вороватых и постоянно всеми гонимых. Мама на остановке подкормила несколько таких оборвышей, и мы с ними на станции простились. Каково же было удивление всех, когда на следующей станции они были снова с нами, с нашим вагоном и появились на перроне раньше всех. Секрет раскрылся очень просто. Под полом пассажирских вагонов тех времен были большие открытые наружу ящики «собачники», как их называли в народе. Они и были их плацкартными местами.
Я помню разговор папы с ними:
– Куда едете?
– Теперь в Москву. К холодам отправимся в теплые края.
Где они потом были, эти несчастные ребята? Что стало с ними дальше? Времена были нелегкие, а впереди война.
Проехали Москву. Она запомнилась невероятной толчеей, трамваями с висящими гроздьями и чудом державшимися на них пассажирами, зоопарком, в котором вызывала восторг всех, в том числе и мой, семья белых медведей, прыгавших с бетонного утеса в воду бассейна, нырявших и кувыркавшихся в нем.
Родными местами мы ехали на нанятых папой лошадях. Шла жатва, и мама объясняла все тяжкие, трудные дела с хлебами в те годы.
У единоличников – в стародавнем, неизмененном виде. В колхозах – «пароконная малая механизация»: жнейки-самосброски и лобогрейки. Что это такое, говорит о себе само название.
Так работать в сельском хозяйстве, у нас было принято еще долго, почти до сороковых годов. И только после войны в колхозах всё это было полностью вытеснено тракторами, тракторными сеялками, комбайнами. А единоличников к этому времени «уморили» совсем.
 А тогда мама
объясняла:
А тогда мама
объясняла:
«Рожь осенью, а что-то другое весной по вспаханному полю посеет севец. Он возьмет севальник, наденет на плечо его ремень, насыплет в него семена, помолится и пойдет рассевать их по всему полю. Потом пройдет по нему с лошадкой, запряженной в борону, заборонует, закроет семена. Они проклюнутся, взойдут, и если будет дождик, то может быть хороший урожай. Когда он созреет – начнется жатва, самая трудная, тяжелая страда хлебопашца (многое из этой страды я сам впоследствии испытал и понял).
Еще с вечера хозяин подготовит косу. Косить хлеб он будет косой, а на косе будут укреплены специальные грабельки. Это чтобы скошенные стебли не перепутывались, а ровным-ровнем оставались вместе. Коса с грабельками называется крюком. Таким образом, хлеб вручную косят: не косой, а крюком – так говорят. (В иных местностях их называют грабки или называют станом.)
С вечера приготовит хозяин телегу, уложит в нее все припасы, а бабы уложат свясла. Они перед этим тоже не были без дела. Загодя, из специально отобранной длинной, не спутанной и замоченной в воде ржаной соломы они вечерами готовили эти свясла – пояса. Ими они будут связывать снопы.
Утром, рано-рано на рассвете, запрягут лошадь и поедут в поле во всем новом. Будет праздник «зажинки». Поедут и косцы, и вязальщицы. Приедут на поле, распрягут лошадей, вязальщицы возьмут свясла, а косцы крюки».
И дальше будет идти действо, о котором рассказывала мама, и которое я мальчишкой наблюдал не на коллективном поле, а много раз у единоличников, например, у моего двоюродного деда Матвеева Дмитрия Андреевича.
Косцы и вязальщицы молча подойдут к полю, встанут рядом, постоят, перекрестятся и пошепчут молитву. Старший скажет: «С Богом, ребята, за работу!» – взмахнет крюком, и первые скошенные стебли прилягут на еще стоящих братьев.
Свяжут первый сноп, и придет радость «зажинок» – праздника первого снопа урожая.
Иногда мой прадед Егор, по рассказу бабушки, первый сноп срезал серпом, по-старинному, считая, что первый сноп должен быть красивым, крюком так не получится.
Хлеб косят не «на ряд», а «на хлеб», и косец должен ловко, не перепутывая, скошенные стебли, положить их полустоя-полулежа на стену стоящего хлеба. Эту науку постиг впоследствии и я, когда косил хлеба в военное время.
Бабушка часто говорила, что нет в этой страде легких работ. Посконные рубахи косцов к середине дня на плечах и спинах будут мокрыми от пота, через неделю или две порвутся, перезнияют на плечах, и там же в поле будут заплатаны. Страда не давала работникам никакой передышки.
 «Коля, – говаривала мне
бабушка, – какая там передышка! Ночевали в поле, под телегой. После ужина валились
замертво от усталости. Часто бывало так, что не переобувались, и потому онучи в
лаптях сопреют. И это не оттого, что мы такие неряхи, и нам чистые ноги не в
радость, а чтобы утром не тратить время на завертывание онуч, обувание лаптей и
наматывание обор. Так они, онучи, потом и разлезутся в руках, и будут все в дырах».
«Коля, – говаривала мне
бабушка, – какая там передышка! Ночевали в поле, под телегой. После ужина валились
замертво от усталости. Часто бывало так, что не переобувались, и потому онучи в
лаптях сопреют. И это не оттого, что мы такие неряхи, и нам чистые ноги не в
радость, а чтобы утром не тратить время на завертывание онуч, обувание лаптей и
наматывание обор. Так они, онучи, потом и разлезутся в руках, и будут все в дырах».
У вязальщиц особые трудности. Это усвоил я сам, наблюдая их труд уже позже. Дни и недели работы в полусогнутом положении, исколотые соломой и колосьями руки, от чего не спасают даже холщовые нарукавники. Постоянно высокий темп работы за косцами: если ты не успеваешь за своим косцом, то задерживаешь косца, следующего за тобой. Того и гляди подрежет. А идут они друг за другом тесной чередой не один и не два. Поспевай, некогда оглядеться и разогнуть спину. А за хорошим косцом и две вязальщицы едва поспевали.
К обеду и вечером другая работа – складывание снопов в крестцы для хранения в поле и просушки. Это уже некоторая передышка.
Вот на эти крестцы в поле мне показывала и рассказывала о них мама, пока мы ехали. В поле уже не было видно косцов. Все поля были уставлены этими удивительными сооружениями наших крестьян, теперь уже совершенно забытыми, а тогда такими обычными: и сушившими хлеб в снопах, и дававшими приют и прохладу в обед, защиту в непогоду, и бывшими для многих-многих крестьянок и родильными покоями, и детскими яслями. Моя бабушка чудом избежала такой участи, чуть не разрешившись в поле бременем – моей матерью.
Ставились вначале подряд три крестца. В крестец складывалось 14 снопов. У нижнего стебли загибались колосьями вверх, чтобы они не лежали на земле, а следующие складывались внахлестку крест-накрест колосьями внутрь. В ряд, параллельно, ставилось еще два крестца, отступя на ширину телеги. Так телега загружалась с двух сторон 70 снопами. Телега – мера количества хлеба в снопах.
В Щепотьеве жил мой дед Андрей Иванович Вырыпаев. Приезд к нему в ту пору я запомнил плохо, хотя это была не первая моя встреча с ним в памятливом возрасте. В это время он болел, а когда был здоров, то был веселым, общительным человеком.
Поговорим теперь о щепотьевских делах и моих щепотьевских пращурах.
СЕМЕЙНЫЕ ЛЕГЕНДЫ И РОДОСЛОВНАЯ
ПРАЩУРОВ РОДА ВЫРЫПАЕВЫХ
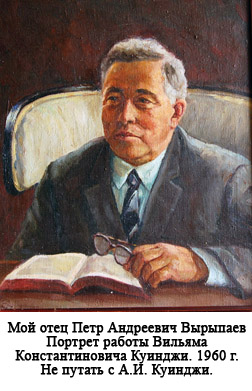 Изучая
материалы архивов по делам, связанным с именем Лермонтова, мой отец
поинтересовался содержанием ревизских сказок Пензенской губернии и там нашел
сведения о наших предках, крепостных крестьянах помещицы Норовой, села
Щепотьева, Чембарского уезда. Ревизские сказки дают сведения не ранее начала
XVIII века. Но и это для наших мест в новейшей истории довольно древнее время.
Изучая
материалы архивов по делам, связанным с именем Лермонтова, мой отец
поинтересовался содержанием ревизских сказок Пензенской губернии и там нашел
сведения о наших предках, крепостных крестьянах помещицы Норовой, села
Щепотьева, Чембарского уезда. Ревизские сказки дают сведения не ранее начала
XVIII века. Но и это для наших мест в новейшей истории довольно древнее время.
После бедствий монгольского ига и войн наша местность пришла в запустение и нуждалась снова в колонизации Российским государством. Поэтому в XVII и более ранних веках места нашего края были малонаселенными, жить было здесь рискованно. Жили здесь либо беглые, либо кочевники, а в лесах скрывались разбойные ватаги. Легенды об этом жили в памяти народа вплоть до предвоенного времени, 1930-х годов. Территория нашего края называлась Диким полем,[2] и в его бескрайних просторах затерялись голоса моих предков. Не докликаться нам теперь друг до друга.
В фонде моего отца Петра Андреевича в архиве Пушкинского дома (Институт русского языка и литературы АН СССР) есть материалы о Диком поле в пределах территории Пензенской губернии – его собственные разыскания на эту тему.
История села Щепотьева и его основание связаны, по-видимому, со временем, когда Петр I после Азовского похода наделял своих отличившихся сподвижников поместьями в Диком поле. По крайней мере, среди них был поручик Щепотьев. Так по легенде, живущей в народе.
Говор села Щепотьева был во все времена среднерусским, и это может служить косвенным доказательством того, что первопоселенцами в нем были люди из Подмосковья, Рязани и тому подобных мест. Говор сохраняется в народе долго: пример Тархан, щепотьевских соседей, «костромских и володимирских шабров», тому доказательство.
После крымской кампании 1853-1856 гг. многие участники ее, уповая на милость нового императора Александра II, надеялись на послабление тягот многолетней солдатчины. С 1861 года срок солдатской службы был сокращен до 15 лет, из них 12 лет на службе, три – в так называемом бессрочном отпуске. Получил его и участник Крымской войны, мой прадед Иван (такова легенда семьи). Радоваться надо. Но как солдат по реформе 1861 года земли он не получил. На солдаток, особ женского пола, земли также не нарезалось. В семье солдата детей мужского пола не было: и он, и его семья остались безземельными. Такова была милость императора-освободителя и его благодарность солдату за верную службу.
 И пошел
мой прадед Иван из Крыма на родину пешком с напутствием в отпускном билете: «...Бороду
брить, волосы стричь, по миру не ходить». Следствием, наверное, этого отпуска и
было появление на свет моего деда Андрея. Родился он уже после реформы 1861 г.,
и к празднику жизни и дележу земли опоздал.
И пошел
мой прадед Иван из Крыма на родину пешком с напутствием в отпускном билете: «...Бороду
брить, волосы стричь, по миру не ходить». Следствием, наверное, этого отпуска и
было появление на свет моего деда Андрея. Родился он уже после реформы 1861 г.,
и к празднику жизни и дележу земли опоздал.
Прадед Иван, поскольку выслужил 15-летний срок, вернулся на родину. Ушел молодым парнем, а вернулся уже мужиком, но без земли, без крестьянских навыков, безо всего, что кормит семью и дает в жизни опору. И глядя на теперь чуждую для них жизнь деревни, все эти бывшие солдаты, по-видимому, тосковали по временам, когда им все было нипочем, когда все они были молоды, по временам, когда столько верст и сапог было истоптано на солдатской дороге, на которой столько пережито и столько друзей оставлено! Теперь бы сказали: «У них крымский синдром…». А тогда односельчане удивлялись: «Соберутся отставные, уж не мальчики, седые бороды по пояс, но тайком запрутся в риге, а мы в щелочку глядим и дивуемся: друг другом командуют, маршируют да вилами, как ружьями, артикулы выделывают». И это все, что сообщала о моем прадеде Иване изустная легенда.
О прабабушке мне было известно еще меньше и доподлинно было известно только то, что она воспитывала в младенчестве моего отца, рано оставшегося без матери.
ПОД ПАРУСАМИ НАДЕЖДЫ В ВОЛНАХ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО МОРЯ
Семейные изустные легенды дали очень скудные и отрывочные сведения о наших пращурах. Желание узнать больше заставило меня обратиться за помощью к краеведам. Так судьба свела меня с Александром Васильевичем Тюстиным, давно знавшим и моего отца, и меня.
Его подсказка привела меня в Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Там я «занырнул с головкой» в море документов, о существовании которых многие и не подозревают, и занялся поисками документов о моих предках. Оказывается, вся их жизнь в прошлых XVIII и XIX веках довольно подробно документирована. И это одновременно и облегчает, и затрудняет поиски. Облегчает, поскольку документы есть, и они могут осветить тот или иной факт, а трудность объясняется обилием документов. Нужен особый навык или нюх архивиста, чтобы найти то, что интересует в ворохе сведений.
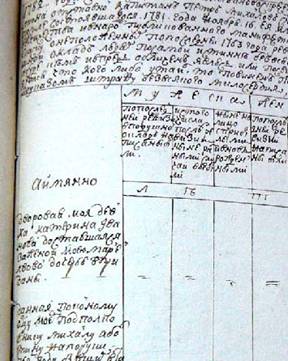 Так какие
же документы освещают жизнь наших предков? Их разновидностей много.
Так какие
же документы освещают жизнь наших предков? Их разновидностей много.
Наши предки были крепостными крестьянами, а для их учета существовали так называемые ревизские сказки.
Документы удивительные. Ревизские сказки – документы крепостного права – дают сведения о податных сословиях, в том числе о крепостных крестьянах – самом униженном, бесправном, самом забитом, в буквальном смысле, сословии царской крепостнической России.
Я написал слова, которые давным-давно навязли в ушах: их постоянно напоминают учебники истории, их бесстрастное повторение уже притупило остроту, притушило гнев этих слов. Но, когда заинтересованный потомок берет ревизские сказки в руки, они потрясают. Это потрясение испытал и я. И много раз на моих глазах навертывались слезы.
Из этих документов до сих пор, с каждого листа буквально, сочатся кровь, слезы и нагло прет поругание достоинства человека.
Ревизские сказки должны были подавать помещики, владельцы поместий, которым принадлежали крепостные крестьяне. Это своеобразные переписи податного населения. Дворяне и священнослужители были освобождены от податей, и их в этих ревизских сказках нет. Зато есть крестьянское сословие от новорожденных младенцев до глубоких стариков.
Ревизские сказки составлялись в определенные, объявленные манифестом, сроки. Всего было проведено десять «ревизий». Первая – 1724 г., вторая – 1743-1747 гг., третья – 1761-1767 гг., четвертая – 1781-1787 гг., пятая – 1794-1808 гг., шестая – 1811 г. и была прервана (приближалась война с Наполеоном), седьмая – 1815-1825 гг., восьмая – 1833-1835гг., девятая – 1850 г., десятая – 1857-1859 гг.
Первая ревизия была проведена в соответствии с указом Петра I, после десятой проведение ревизий в прежнем виде потеряло смысл. А всероссийскую перепись населения попытались провести лишь в 1897 году.
 Казалось
бы, ревизские сказки и есть единственный и надежный источник: бери и выуживай
всю родословную. Но это не так. Ведь наших предков, крепостных крестьян,
помещики без всякого их согласия дарили друг другу, меняли на породистых
лошадей и собак, передавали по наследству, и крестьяне попадали от одного владельца
к другому. Таковы нравы крепостного права.
Казалось
бы, ревизские сказки и есть единственный и надежный источник: бери и выуживай
всю родословную. Но это не так. Ведь наших предков, крепостных крестьян,
помещики без всякого их согласия дарили друг другу, меняли на породистых
лошадей и собак, передавали по наследству, и крестьяне попадали от одного владельца
к другому. Таковы нравы крепостного права.
Поэтому для разысканий необходимы и другие документы: завещания, раздельные акты наследства между наследниками владельца крестьян, дарственные, рекрутские формулярные списки, рекрутские квитанции для помещиков на крестьян, отданных в рекруты, метрические книги церквей, исповедальные церковные ведомости, купчие крепости.
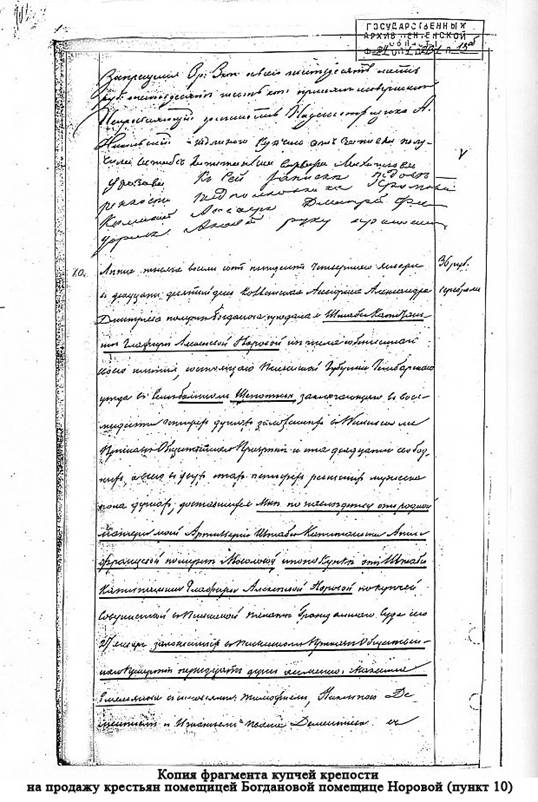
Да-да, купчие крепости, поскольку наших предков, семьями и порознь – россыпью, продавали со всем скарбом и живностью, вплоть до деревянной бороны и куренка. И об этом нашлись документы. Так что продавали и не раз. А до 1808 года могли это делать прямо на ярмарке, показывая товар лицом и оптом – семьями и в розницу – россыпью, порознь. Самое настоящее рабство. Закладывали крестьян при нужде в деньгах, в опекунском совете и, следовательно, сведения о них будут в закладных квитанциях.
Таковы просторы и горизонты документального моря и, самое главное, почти ко всем найденным и сопутствующим документам приходится обращаться много-много раз.
Работа по этому поиску сродни расчистке старинных росписей на стенах древних храмов. Снимается слой за слоем, и, как при проявлении фотоснимка, все четче и контрастнее проявляются детали, сами факты становятся объемными и приобретают истинную достоверность.
И все же при всем многообразии документов основными, главными, говорящими о судьбе наших предков, являются ревизские сказки, дающие сведения о составе семьи крестьянина, и метрические церковные книги, дающие сведения о рождении, бракосочетании и смерти паствы церковного прихода, т. е. уточняющие сведения ревизских сказок.
Это сейчас я могу обстоятельно рассказывать об этом, а вначале мало что знал.
И когда я увидел извлеченное из хранилища архива множество толстенных, из многих сотен листов, древних фолиантов, я оторопел. Ощутил почти физически, как я захлебнусь в этом море документов.
Первоначально мое исследование двигалось медленно, не было навыка. И только впоследствии приобретенный опыт позволил ускорить работу и обрести уверенность в поиске.
А дело это, оказывается, может быть по-настоящему увлекательным и, главное, постепенно к тебе приходит мысль, и потом становится убеждением: хочешь быть настоящим гражданином Родины – загляни в эти фолианты. В них сокрыты и корни наших теперешних бед, и источники наших достижений и радостей.
Я уже много проделал работы и поднаторел во многих вопросах нашего родословия, когда мне сказали, что по нашей родословной существует так называемая тематическая справка, и передо мной положили генеалогическую схему нашего рода.
Это вызвало противоречивые чувства. С одной стороны, облегчение в работе, а с другой, я уже видел недостатки, неточности этой схемы.
В отличие от подхода работников архива, мои разыскания были глубже, и поиск основывался не только на документальных версиях, но и на знании легенд нашего рода.
Я уже упоминал, что к документам приходится обращаться многократно. Это позволяет вести поиск и шире, и глубже. Нет нужды рассказывать обо всех перипетиях поиска. Как пример, расскажу о разысканиях только по одной веточке родословной, о работе в самом начале над документами архива.
Вид мой, новичка в архивных разысканиях, наверное, был растерянным и беспомощным. Но заведующая читальным залом Государственного архива Пензенской области (ГАПО) Тамара Леонидовна Шалимова рассказала о структуре и организации архива, научила работе с путеводителем по делам и фондам архива, ознакомила со структурой фондов и адресовкой дел, и мне стало многое понятным.
Так началась моя двухлетняя жизнь в архиве.
С кого начать поиск? Конечно, с того, кого знал я сам лично, с деда Андрея Ивановича Вырыпаева. Я знал примерно год его рождения: после 1861 года. Нашел по путеводителю архива: в делах Пензенской духовной консистории в фонде 182 находятся метрические книги церквей. Опись 7 этого фонда содержит перечень дел церквей Чембарского уезда, и далее в этой описи указаны номера дел «Новотроицкой церкви села Новотроицкое, Большое Щепотьево тож...» за 1861-й и последующие годы. Перечитал дела за несколько лет и в деле № 125 за 1867 г. на листе 1610 нашел:[3]
«...25 октября (старого стиля, как и в дальнейшем. – Н.В.) 1867 года у билетного солдата Ивана Семенова и законной его жены Любови Михайловой родился сын Андрей...
Воспреемники: временнообязанный крестьянин госпожи Норовой Иван Михайлов и чембарская мещанка Анна Семенова».
Конечно, возникает сомнение, а он ли это? Полная и точная идентификация достигается сопоставлением фактов и признаков за несколько лет кряду по метрическим книгам или ревизским сказкам.
Надо ли говорить о волнении, которое я испытал, прочтя эту запись. Меня, внука Андрея Ивановича, имевшего одного-единственного, любимого деда, которого даже в научно-технических исследованиях считал для себя примером, эта находка повергла в такое состояние, что весь оставшийся день я находился под ее впечатлением. Такова сила, такова энергия старинных документов, таково их воздействие на психику индивида, настроенную на духовный резонанс с прошлым.
Надо быть абсолютно бесчувственным болваном безо всякого намека на воображение, чтобы не почувствовать это. И так бывало потом не единожды.
В записях метрик нет фамилий, а только имена крестьян и имена их отцов. Фамилии для крепостных крестьян были непозволительной роскошью. Они были только у господ да у рекрутов, поскольку без них трудно одного рекрута отличить от другого.
Фамилии крестьян в документах в большинстве сел появились значительно позже. В быту, в обиходе было две или даже больше фамилий: одна – подлинная или «волостная», связанная с документами, другие, так называемые «уличные», – по имени прародителя или по сельским прозвищам, а также по принадлежности к господину или месту проживания. Эти тонкости при поиске нужно знать. Они помогают распутать клубки загадочных записей в документах.
Находка даты рождения деда окрылила и насторожила: появились первые сомнения в достоверности семейных преданий.
И после этого я решился больше узнать о бабушках моего отца, подтвердить или опровергнуть семейное предание.
В устных легендах о детстве моего отца Петра Андреевича Вырыпаева говорилось, что, рано лишившись матери, он воспитывался бабушкой, матерью его отца. Но в документах архива упоминание о ней я в то время обнаружил только в связи с рождением деда Андрея Ивановича, т. е. под 1867 годом. Дальнейшие следы я не находил. Естественным было бы предположить, что семейное предание неверно, возможно, она умерла в XIX веке, и я не могу найти эти сведения. Речь поэтому должна идти о другой бабушке моего отца Петра Андреевича, по материнской линии. Значит, надо искать происхождение моей бабушки, жены Андрея Ивановича. Я знал, что ее звали Евдокией (бабушкой Дуней), и все.
Ход поиска подсказали метрические церковные книги. В них есть раздел бракосочетания, там указывается происхождение жениха и невесты, а в более позднее время вписывались полные имена и фамилии. Там я, листая снова метрические книги, нашел:
«2 октября 1885 года обвенчались Андрей Иванов Вырыпаев и Авдотья Николаева Пендюрина (Евдокия, Авдотья – одно и то же имя. – Н.В.). Поручители по жениху Михаил Семенов Вырыпаев и Петр Макаров Глебов, за невесту Степан Афанасьев Вырыпаев и Василий Иванов Кавалеров...».[4]
Видите: 1885 год – появились фамилии. В розысках сведений каждый даже маловажный, казалось бы, факт потом ложится в строку, и эти сведения нам еще пригодятся.
После этого я мог вести поиск более широко и вскоре найти, идя по восходящей линии, и дату рождения Авдотьи Николаевны: 15 февраля 1869 г.,[5] и имена моих прадеда и прабабушки. Их звали Николай Селиверстович и Наталья Афанасьевна.
Поскольку у их дочери фамилия Пендюрина, то и у ее родителей должна быть такая же, и это позже подтвердилось.
Наталья Афанасьевна – бабушка моего отца, и она могла его воспитывать. Так подумал я и решил проследить по документам историю семьи Николая Селиверстовича.
Снова возвращаюсь к делам за 1869-1895 гг. и неожиданно нахожу9 упоминание Николая Селиверстовича и законной его жены Параскевы Трифоновны![6] Что такое? А где же родная бабушка отца Наталья Афанасьевна? Куда девалась? Снова листаю метрические книги за несколько лет кряду и нахожу упоминание: «вдового Николая Селиверстова Пендюрина сорока лет и вдовы Параскевы Трифоновой Благовой двадцати лет по случаю второго брака 27 августа 1884 г.».[7] Значит, Наталья Афанасьевна к этому времени умерла. Где и когда?
Я просмотрел метрические книги церквей Щепотьева и близлежащих сел, и сведений о ее смерти не обнаружил. Значит, поиск нужно вести шире, а для этого нужно знать ее подлинную, девичью, и уличную фамилии. Фамилию мужа я знаю, знаю уличную фамилию семьи. А какова ее девичья? Я не стану описывать, как была найдена ее девичья фамилия. Это предмет других поисков. Я просто сообщу, что Наталья Афанасьевна принадлежала к роду Вырыпаевых и имела эту девичью фамилию и напомню: поручителем за невесту – Авдотью Николаевну – был Степан Афанасьевич Вырыпаев, брат Натальи Афанасьевны.
Шаг за шагом, изучая документы жизни Натальи Афанасьевны, я обнаружил запись «…о рождении у Николая Селиверстова Пендюрина и законной его жены Натальи Афанасьевой 22 декабря 1883 г. дочери Евгении», а 1 января 1884 г. малышка умерла.[8]
Значит, Наталья Афанасьевна была в это время жива, а в августе 1884 г. ее в живых уже не было, и данные о ее смерти искать нужно в каких-то других местах.
А что если она заболела, ее отвезли в больницу, и там она умерла? Где больницы были в то время? Только в Чембаре.
И в метрической книге Покровского собора г. Чембара нашлась запись: «15 июня 1884 г. умерла крестьянка села Щепотьева Наталья Афанасьевна Селиверстова».[9]
Запись, как видно, была произведена с ее слов, или со слов приведших ее: по уличной фамилии мужа. В метрической книге запись произведена на основании отношения смотрителя Чембарской земской больницы от 15 июня 1884 г. за № 118.
Так закончилась трагедия моей прабабушки, бабушки моего отца. Неточность в указании ее подлинной фамилии и отсутствие в записи упоминания имени ее мужа, обычных при регистрации смерти жены, – косвенное доказательство того, что у смертного ее одра родных не было, и похороны ее были казенными. Она, видимо, имела больные почки, но в который и последний раз была беременна. Она родила более десяти детей[10] и многих, многих схоронила.
Таковы судьбы наших прародительниц в те годы. Последняя беременность была для нее роковой. Она не оправилась от родов, получила смертельное осложнение на почки и в возрасте 43 лет умерла от водянки.
Мой отец Петр Андреевич родится через 21 год. Так что она не могла принимать участие в его воспитании. Но, может быть, неродная бабушка приняла участие в воспитании моего отца…
Снова прохожу по листам толстенных фолиантов. И выяснилось: семья Николая Селиверстовича просуществовала до 1897 года. Они вместе с Прасковьей Трифоновной, как мне кажется, горячо любимой им, прожили 13 лет и имели семерых детей. Шестеро умерли в разных возрастах.
Моему прадеду Николаю Селиверстовичу судьба в 1897 г. принесла тяжкие испытания: «…27 апреля от горячки умерла жена Прасковья Трифоновна тридцати трех лет, на другой день, 28 апреля, умерла дочь Пелагея, через две недели, 12 мая, умер сын Гавриил девяти лет».[11] Он остался один с дочерью Агафьей. Агафья – тетя Ганя была очень любима моим отцом, и мы часто бывали у нее в гостях. Я ее хорошо помню. Испытания, выпавшие на долю Николая Селиверстовича, дали о себе знать, и «…в возрасте 61 года[12] он скончался от рака 26 сентября 1902 г.[13]
Таковы результаты разысканий только по одной веточке родословной и только в одной, близкой к нашему времени, части. Они дали много сведений и подтвердили, путем исключения возможных участниц, устную легенду о том, что моего отца воспитывала бабушка Любовь Михайловна. Сведения о ней, ее жизни нужно искать среди документов ее сына Андрея Ивановича Вырыпаева.
Такими оказались итоги первых моих походов по волнам и среди водоворотов документального моря.
НОВАЯ ЭПОХА,
НОВЫЕ СЛОВА, НОВЫЕ ПОНЯТИЯ
В метрических книгах середины XIX века постоянно сталкиваешься со словами «билетный солдат» и «временнообязанный крестьянин». Без объяснения этих слов и понятий невозможно понимать документы эпохи, невозможно воссоздать атмосферу тех событий, становятся непонятными мотивы событий и политика, их породившая.
В документальном обороте и бытовом обиходе понятия и слова «билетный солдат» и «временнообязанный крестьянин» появились в связи с отменой крепостного права и военной реформой выдающегося русского реформатора, нового военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина.
После крымской компании 25- летний срок службы стал анахронизмом. Это хорошо он понял и в 1861 году добился его сокращения до 15 лет, а впоследствии и отказа от рекрутчины – переходу в 1874 году к всеобщей воинской повинности. Кроме того, при нем был произведен полный переход армии на современное оружие.
Еще одним по-настоящему добрым делом Д.А. Милютина стала отмена в 1863 г. телесных наказаний солдат и ссылки их за провинности на вечное поселение в Сибирь. Так закончилась эпоха палочной дисциплины в армии, и шпицрутены стали достоянием истории.
Срок солдатам службы в строю, при Дмитрии Алексеевиче Милютине, был постепенно сокращен с 15-ти до 6-ти лет. После отбытия действительной службы солдат отправлялся в запас, с проживанием у себя дома. По мере сокращения срока действительной военной службы, срок пребывания в запасе увеличивался с трех до девяти лет. При 15-летней службе солдат 12 лет находился в войсках и 3 – в бессрочном отпуске, затем это соотношение изменилось как 10 + 5 и, наконец, в начале семидесятых годов солдат служил шесть лет в войсках и 9 лет находился в бессрочном отпуске.
Понятие «билетный солдат»
означало, что этот солдат, с военным билетом на руках (отсюда «билетный»), отправлялся
в бессрочный отпуск. В «билете» указывалось, кто он и
откуда и где волен проживать. В нем предписывалось также «бороду брить, волосы
стричь, по миру не ходить», как свидетельствовал В.А. Гиляровский в очерке «Сухаревка».
Находясь в бессрочном отпуске, билетный солдат должен быть готовым встать в строй по первому требованию. Описанные сцены потайных занятий маршировкой и т.п. надо рассматривать, как способ сохранить свои солдатские навыки, способ не забыть уроки службы, а не только ностальгические воспоминания о днях солдатской молодости. Хотя не исключено, что обязанность поддержания «билетников» в строевой форме лежала на каком-нибудь отставном унтер-офицере.
После окончания бессрочного отпуска солдат получал полную отставку: становился отставным солдатом и в этом качестве иногда доживал до глубокой старости.
На билетных солдат по реформе 1861 г. земли не нарезалось, а когда они выходили в отставку, земельные наделы часто уже были распределены. В указе об отставке давалось право солдату селиться в любом месте, но этот, казалось бы, красивый жест солдатами оценивался совсем по-другому: «Иди, служивый, на все четыре стороны».
И придя домой, по окончании отпуска они должны были хлопотать о причислении к крестьянской общине того или иного села, ублажая общину и волостные власти.[14] Одновременно правительство, стремясь иметь обученных солдат, готовых быстро встать в строй, в местах неспокойных, угрожаемых в военном отношении, распускало слухи о свободных землях в Северной Таврии и Новороссии. Колонизация этих земель отставными солдатами – противовес угрозе Турции и Англии – велась без широкой огласки. Эти слухи в селе Щепотьево эхом докатились до трети ХХ века.
Ну, а дома сплошь и рядом отставные солдаты, не имея ничего для жизни, становились батраками, поденщиками, в лучшем случае сторожами в имениях и присутственных местах, в худшем – содержались «миром» из милости «за ради Бога», за пустяковую работу: ходить ночью по селу с «колотушкой», стеречь селян от пожара и разбойного нападения.[15]
Так был создан громадный резерват людей, наполовину отверженных, недовольных пореформенным порядком вещей. В пороховую бочку общественного недовольства реформами был заложен взрывчатый заряд.
Другим нововведением, новым понятием в документальном обороте и бытовом обиходе было «временнообязанный крестьянин господина… имя рек». Это понятие вводилось взамен бытовавшего ранее «крестьянин господина... имя рек».
По реформе 1861 г. крестьяне выводились из крепостной зависимости от помещика, обретая личную свободу, т.е. их нельзя было продавать, передавать по наследству и т.п., но крестьяне «освобождались» без земли, остававшейся во владении помещиков-землевладельцев. Реформаторы-то для себя «хотели, как лучше, и получили, как всегда».
И крестьянин должен был выкупать у помещика землю, - более чем скромный надел общинной земли, на которой работал всю жизнь он сам и трудились его предки. Крестьяне были возмущены несправедливостью «реформ».
Их никто не спросил, как сделать реформы справедливыми. Повсюду начались многочисленные крестьянские бунты. Историк А. Попельницкий свидетельствует: крестьянство нигде не приняло перемен (текст выделен мной – Н.В.) Всего более 1860 бунтов крестьян произошло против «освобождения».
Эти крестьянские бунты были настолько многочисленными, что правительство на «усмирение» вынуждено было бросить войска.
Расстрелами и многочисленными порками шпицрутенными зачинщиков (для примера) бунт был загнан внутрь.
«К осени 1861 года правительству войсками и жестокими полицейскими мерами, грандиозными массовыми порками удалось предотвратить большую крестьянскую войну», - по А. Севастьянову (Севастьянов А. Н. Во мгле благих побуждений // «Литературная газета» № 27 6-12 июля 2011 г.).
Это были первые сполохи гражданской войны царя и царского правительства против собственного народа. Это он и его правительство развязали её. Святость царского венца, тем самым, была ими потеряна и окончательно замарана. Теперь с ними, царями, можно было делать, что угодно – ну, и делали что угодно революционеры всех мастей.
Нашу округу не минула чаща сия. Наиболее активные крестьянские бунты были в Чембарском, Керенском уездах Пензенской губернии и сопредельных уездах Моршанском, Кирсановском, - Тамбовской губернии. Особенно активными они были в селах Высоком, Черногай и Кандеевке, где «бунтовщики» исчислялись десятками тысяч. Именно там правительство прибегло к самым жестоким мерам «усмирения». Более сотни «усмиренных» крестьян было сослано в Сибирь на каторжные работы. И наши большие дороги - безмолвные свидетели каторжных этапов этих колодников.
До отмены крепостного права крепостные крестьяне платили помещику денежный оброк, другие отрабатывали барщину, третьи пользовались отработочной арендой, так называемой испольщиной. Испольщина – это работа на земле исполу, т.е. за половину плодов, крестьянином выращенных на ней, а вторая половина принадлежала владельцу земли, помещику. Испольщина, как бытовое явление, просуществовала до революции 1917 года.
Нужда многодетных крестьянских семей толкала обращаться к землевладельцу (помещику или кулаку) с просьбой об аренде земли на один год на условиях испольщины: «первый пуд мой, а второй (крестьянский) твой, первая копна моя, а вторая твоя».
Реформа 1861 года давала право крестьянам на владение слишком малыми, обрезанными в пользу помещика, нищенскими наделами земли. Так, например, 107 душ мужского пола временнообязанных крестьян помещицы, штабс-капитанши Глафиры Алексеевны Норовой владели 443 3/4 десятинами земли и должны были ежегодно выплачивать за нее 753 рубля выкупных платежей, а сама помещица только в Щепотьеве имела 520 десятин удобной земли, кроме того, имела землю и в других селах Чембарского уезда.[16] И Норова не самый крупный землевладелец уезда.
Бедствовали многие многодетные крестьянские семьи со своими скудными земельными наделами. Об этом мне много рассказывала бабушка. «Коля, – часто повторяла она, – не было до революции золотого века. Было-то совсем, совсем другое, была испольщина». «Коля, – говаривала она, – так было во всем. Если не согласишься на испольщину летом, то ведь часто, бывало, хлеба не хватало даже до нового года. И тогда бежишь к этому мироеду, а он дает тебе зерна, приговаривая: «Пуд взял – два вернешь» и запишет тебя в долговую книгу».
Помещики, как правило, не торопились отказаться от испольщины, прекратить состояние «временнообязанного крестьянина», и готовы были продолжать его, это состояние, как можно дольше. В итоге, правительство было вынуждено, из-за общественного недовольства, обязать помещиков в 1881 г., т. е. через 20 лет после объявления реформы, проводить обязательный выкуп земли крестьянами.
Крестьяне, не имевшие достаточных средств, для выкупа надела земли должны были обращаться за ссудой в специально созданный крестьянский поземельный банк.
Банковские ссуды крестьянам давались под несправедливые проценты. А это означало, что крестьяне влезали в финансовую кабалу банков, означало просрочку платежей по ссудам. Означало разорение и бегство из деревни на заработки, пополняя толпы бродяг, голытьбы, батраков, поденщиков, бурлаков, биндюжников и босяков, постоянных обитателей ночлежек в городах и ночлегов в тепле кирпичных сараев и под кровлей опрокинутых лодок на пристанях, - давая дармовую рабочую силу (за кусок хлеба), для воротил зарождающейся промышленности.
Такова пародия на так называемые рыночные отношения в дореволюционной деревне.
Вот где корни экспортных поставок зерна за границу: искусственное создание товарных запасов хлеба за счет ограбления полуголодного люда. Вот горючий материал для недовольства в народе в начале века существующим порядком вещей, вот где причины революционных настроений.
Революция 1905 года была, по сути своей, крестьянской. Дело в том, что основной политической силой этой революции была партия эсеров. Так сокращенно называлась партия социалистов-революционеров.
О большевиках тогда мало кто слышал. Они были малой горсточкой людей, и влияния на политические события не имели. Об этом говорят документы тех лет, которые изучал мой отец. Это потом значение их в революции 1905 года во много раз преувеличили.
А партия эсеров – почти насквозь крестьянская – это партия террора. Вот и горели помещичьи имения в 1905 г.; вот и вырубались помещичьи леса;[17] вот и делились помещичьи запасы из закромов; вот и запахивались помещичьи межи на полях в пользу крестьянской общины; вот и пороли за это казаки нагайками; вот и вешал «благодетель» России, бывший саратовский губернатор, бунтовщиков на своих именных «столыпинских галстуках»; вот и расстреливали его карательные отряды без суда и следствия восставших рабочих.[18]
Переселение Столыпиным малоземельных крестьян на пространства Сибири было, по существу, не реформой, а пустым прожектерством. Земли её невозможно было освоить неграмотному, забитому крестьянину с существующим укладом отсталого крестьянского хозяйства. Соха, коса, деревянные вилы – плохие помощники в этом деле, - в суровых условиях сибирского климата.
Радетели «реформ» Столыпина любят говорить о миллионах переселенцев на земли Сибири, но помалкивают о миллионах крестьян вернувшихся оттуда и попавших в ловкие лапы кулаков. Кулаки скупили по дешевке земельные наделы и, не развивая никак технику сельского хозяйства, заставили эти миллионы на них батрачить или стать их испольщиками. Оснащение сельского производства новым, передовым оборудованием и использование достижений агрономической науки, - было исключением. Зачем это делать, коли есть страшно дешевая, на всё согласная, - рабочая сила. «Реформы» консервировали отсталость российского крестьянского хозяйства и, в этом смысле их надо считать реакционными. А мировая практика промышленного производства и сельского хозяйства, основанного на нем, ушли далеко, далеко вперед.
Незавершенные реформы Столыпина, которые предназначались для успокоения общества, внеся в крестьянскую среду смуту и раздоры, не могли достичь своей цели. А дали совершенно неожиданный результат – усиление недовольства существующими порядками и усиление революционных настроений в обществе.
Оценки результатов реформы Александра II и неудавшейся крестьянской реформы Столыпина даны мной на основании сведений, полученных от моих родственников и жителей ближайших сёл округи, - крестьян сёл Щепотьева, Тархан (Лермонтова), Калдусс, Кашкарова, Нижних Полян, деревень Шафтель, Подсот, Крюкова и других сёл и деревень Чембарской уезда, собранных моей матерью Ольгой Семеновной – историком по профессии. Неграмотный народ мог передавать другим поколениям сведения об исторических событиях, свидетелем которых он был, только из уст в уста. Она многократно выступала в печати, и на различных конференциях – говорила и настаивала на том, что, при оценке прошлого, необходимо привлекать живых свидетелей событий и использовать, при изучении истории, краеведение.
 Эти,
собранные ей оценки, носят, конечно, во многом эмоциональный, субъективный
характер, но они носят на себе печать того, как эти «реформы» отразилось на них
- землепашцах. И, не учитывать их нельзя – «реформы» прямо касались именно
крестьянства России, а не кого-либо ещё.
Эти,
собранные ей оценки, носят, конечно, во многом эмоциональный, субъективный
характер, но они носят на себе печать того, как эти «реформы» отразилось на них
- землепашцах. И, не учитывать их нельзя – «реформы» прямо касались именно
крестьянства России, а не кого-либо ещё.
Октябрьская революция 1917 года была, на самом деле, революцией антисословной, антифеодальной. Именно поэтому ее поддержал народ, на две трети состоявший из неграмотных крестьян, не умевших ни читать, ни писать. То, что высоколобые интеллигенты назвали ее социалистической, было мало понятно народу, который даже в 30-х годах с трудом выговаривал это слово: просто по малограмотности.
И все же это была Великая Революция, а не переворот, как ее теперь уничижительно называют, - в угоду нынешним политическим порядкам. Хотя бы потому, что за жизнь только одного послереволюционного поколения Россия стала страной сплошной грамотности, очистилась от скверны бытовой антисанитарии и вернула народу высокое самосознание.
Она отворила врата Знаний для всех народов, населявших Россию, многие из которых не имели даже своей собственной письменности. И они обрели ее, как результат просветительской ипостаси завоеваний Революции.
Революция также дала российским крестьянам краткую неповскую передышку. Моя бабушка любила повторять – «Самое хорошее время для крестьян было во времена НЭПа. Это свидетельствую я, и так говорили люди, помнившие еще крепостное право». Что было потом - мы знаем.
В любых исследованиях подобного рода не существует и не может существовать абсолютных оценок. Правд - то много, а Истина одна. Она известна только богу. Это касается также и документальных исследований.
И мы лишь к истине приближаемся, но никогда ее не постигнем, как Истину Абсолютную. В относительности наших познаний суть всех, так называемых, классовых и партийных противоречивых оценок.
Когда мы рассуждаем о революциях, мы всегда рискуем впасть в крайность, - или их благословляя или проклиная, - поскольку любая революция изначально противоречива и неоднозначна.
А надо всегда-то помнить, что революции делают не неизвестно откуда-то взявшиеся смутьяны, что при отсутствии революционной ситуации революции невозможны. И она создается не революционерами, а политикой правящей элиты, правящим классом, политикой, создающей невыносимые условия для народа. Об этом говорит исторический опыт многих государств и народов.
И видится некая общая закономерность в судьбах различных социальных и других больших и малых революций. В них общество всегда надеется найти решение своих проблем и упований. Но в складках мантии божества – Революции прячется всегда нечто, которое выворачивает все наизнанку. Примеров этому множество.
И сам собой приходит вывод: любая Революция – в большом или малом – несет в себе гибель ее идеалов. Двигают революциями высокая нравственность и лозунги высокой справедливости. Губит социальные революции и послереволюционные режимы не осознание того, что высокой нравственности революционных лозунгов невозможно достичь старыми безнравственными понятиями и способами.
Но слишком медленно эволюционируют нравственность и мораль общества. И почти все революции, и её творцы, и её герои – пленники этих старых понятий и заблуждений. А по-другому ни они, ни народ не знают и не умеют, как сделать её без присущих ей родовых пятен.
Вот к каким рассуждениям приводит пояснение двух невинных с виду понятий: «билетный солдат» и «временнообязанный крестьянин».
СУДЬБЫ ЩЕПОТЬЕВСКИХ ПРАРОДИТЕЛЕЙ
Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А. Пушкин
Первые документальные сведения о моих прадеде Иване и прабабушке Любови лежали почти на поверхности, и я добыл их сразу, как писал об этом ранее. Но потом дело застопорилось, и розыск сведений приобрел длительный и почти безнадежный характер. Тем драгоценней были крупицы фактов, добытые длительным и изнурительным трудом, трудом архивиста-дилетанта.
И эти крупицы фактов никак не хотели ложиться в знакомые рамки семейных преданий. Началось с того, что в семейных преданиях говорилось: мой дед Андрей Иванович Вырыпаев умер в 1936 г. в возрасте 73 лет. И отсюда исчислялась дата его рождения – приблизительно 1863 год. А на самом деле Андрей Иванович родился в 1867-м. Это значит, что прадед Иван вернулся на родину не сразу после 1861 г., а значительно позже, и был на самом деле моложе, чем по рассказам о нем.
Так стройное здание семейных преданий рассыпалось, а дальше стали появляться в судьбе семьи прадеда еще более непонятные и драматические документы. И чем больше я вникал в их содержание, тем горше мне становилось. Как же мало радости выпало на долю моих предков!
Прадед Иван родился в 1835 году, был старшим сыном в семье отца, и был отдан в рекруты.[19] Отдавались в рекруты или по жребию, или по решению помещика. И мы теперь не можем узнать истинную причину отдачи его в солдаты. Помещик обязан был «поставить» (слово-то какое!) определенное количество рекрутов, и об этом ему выдавалась рекрутская квитанция: поставил столько-то рекрутов без упоминания имен и фамилий.[20]
Смотришь документы рекрутского присутствия и видишь: возраст рекрутов от 15 (да-да, 15) и до 35 лет. И подростки, и мужики, у которых полно детей. Что двигало соображениями помещиков? Только собственная выгода и произвол.
Рекрут Иван уже был женат и ушел служить, оставив жену-солдатку. Женили Ванюшу в неполные 18 лет, а невесте его Любе не исполнилось и 17-ти.[21] Такие ранние браки были не редкость и они были выгодны для помещиков: появлялась новая семья.[22] И этой выгоды помещица не упустила – женила, а через год, в 1854 году, продала наряду с другими семьями новой владелице.[23]
Сведения из документов в дальнейших исследованиях о нем были скудные и ставили больше вопросов, чем давали на них ответы.
Действительно, как могло получиться, что детей у молодых родителей в течение двух лет не было,[24] а в 1867 г. вдруг появился Андрей.
Может быть, в рекруты он был сдан раньше. Ведь в семейном предании говорилось, что он принял участие в Крымской войне, а она началась в 1853 году. И на этом основании естественно предположить, что в ревизской сказке, писанной, возможно, со слов членов семьи, допущена ошибка: он отдан в рекруты раньше, а не в 1855 г., и поэтому-то детей не было. Такие ошибки в документах той поры были не редкость.
Так возник тупик в непрерывных поисках в течение более чем трех месяцев: нет никаких документов на отдачу его в рекруты и возвращения со службы. Но эти поиски дали много других фактов, порой совершенно неожиданных.
Меня,
например, ошеломило появление моей прабабушки в метрической книге в качестве
солдатки с незаконнорожденной дочерью,[25]
а затем еще с одной незаконнорожденной дочерью.[26] Может быть, и раньше у Любови
Михайловны были незаконнорожденные дети? Нет, в 1856-1860 годы детей у нее не
было. Но белым пятном оставался 1859 г.: не мог найти за этот год метрическую
книгу. Но вот нашел. И там еще один незаконнорожденный ребенок.[27]
Было отчего прийти в полное недоумение и попытаться, хотя бы предположительно, восстановить картину того, что же произошло с Любовью Михайловной – солдаткой, не имевшей ранее детей в браке и ставшей вдруг серийной «развратницей».
Так началось более внимательное изучение документов, связанных с ней и ее окружением в быту и жизни.
В то время незаконнорожденные дети были не редкостью. И церковь, будучи на страже закона и нравственности, осуждала женщин, допускавших подобное, и накладывала на грешниц церковное покаяние – епитимью, по решению духовной консистории.
Пришлось обратиться к делам Пензенской духовной консистории и окунуться в грязь судных дел по самым разным поводам.
В них масса судебных церковных решений о наложении епитимьи на виновниц подобного греха даже за одно такое прегрешение. А здесь за серию таких грехов, что же должно быть? Я не поверил своим глазам и несколько раз перечитал эти невеселые документы, «прочесал» каждую строчку судебных дел за все близкие к этим годы. Нет, моя прабабушка в грешницах у церковников не числится. Почему?
А как к появлению внебрачных детей относятся родственники Любови Михайловны и Ивана Семеновича? Метрические книги дали на это ответ. Все эти дети были приняты родственниками и служивого Ванюши, и «грешницы» Любаши. При крещении детей были родные Ивана Семеновича и Любови Михайловны, и они приняли этих детей на свои руки: стали их крестными родителями – восприемниками детей.[28] Среди восприемников обязательно должен быть мужчина. Он и становился крестным отцом ребенка, давая ему отчество.
Тщательное изучение документов открыло еще одну сторону фактов, связанных с солдаткой Любовью Михайловной. Оказывается, односельчане совсем не сторонились этой «развратницы». Наоборот, в метрических книгах найдена масса записей об ее участии в крещении детей односельчан, т.е. многие стремились стать кумовьями с ней.[29] Даже создается впечатление, что было престижно иметь ее крестной своих детей. Значит, уважали. С «паскудой» же кто захочет кумиться!
Неразгаданным остался род занятий ее в те годы, когда Иван Семенович был на службе. Где она жила, в какой семье – так и осталось неизвестным. По ревизским сказкам 10-й ревизии[30] ее нет ни в родной семье, ни в семье свекра, ни в ревизских сказках на солдаток. Она только появлялась в метрических книгах для крещения детей односельчан или своих незаконнорожденных. И все.
Таким образом, эти разыскания, связанные с ней, поставили несколько вопросов:
- почему священник Новотроицкой церкви с. Большое Щепотьево отец Григорий Студенский закрыл глаза на ее прегрешения?
- почему родственники Ивана Семеновича и ее родные фактически приняли этих детей, как своих?
- почему односельчане своим желанием иметь ее восприемницей для своих детей проявили к ней интерес и уважение?
- почему в ревизских сказках она нигде не находится? где она пряталась?
- почему имя последней дочери такое странное, несвойственное для крестьянской среды?
- почему родились две младшие дочери почти в одни и те же дни месяца?
Сопоставляя все эти факты, неизбежно приходишь к одному наиболее вероятному выводу: один из владельцев поместий, а помещиков в Щепотьеве было несколько, скорее всего, один из Норовых, сделал ее своей любовницей-наложницей – по ее согласию, или против ее воли.
Вот почему отец Студенский помалкивал и не доносил об ее прегрешениях в консисторию – у нее был достаточно сильный покровитель.
И поэтому родня ее не бросила, понимая, что это ее беда или ее судьба; поэтому односельчане искали в ней восприемницу для своих детей, считая ее фавориткой у их владельца, и надеялись на ее помощь; поэтому нигде ее и нет в ревизских сказках. Она, возможно, проживала в господских покоях, а кому какое дело, кто и почему у барина живет?
Поэтому и зачинались эти дети в сезоны барских забав: в весеннюю охоту или охоту с борзыми по чернотропу и первой пороше. Я знаю по рассказам отца и деда, что это было такое. Картины этих охот из фильмов и романов лишь бледные тени тех барских гульбищ поместного дворянства чуть ли не со всего уезда.
А родня Ивана Семеновича и он сам, действительно, приняли этих незаконнорожденных детей как своих собственных. И я нашел тому еще одно доказательство, снова и снова возвращаясь к документам, ранее уже бывшим в моих руках и перечитывая их уже совсем другими глазами.
Вот это доказательство: Иван Семенович Вырыпаев похоронил последнюю дочь Любови Михайловны как свою собственную, и об этом есть запись в метрической книге.[31] Незаконнорожденных детей хоронили матери и никто больше. Найдено было и неожиданное подтверждение догадки по поводу отца этих детей.
Но прежде я напомню, что 27 января 1859 года у солдатки Любови Михайловны появился незаконнорожденный сын Федор. А через семь месяцев появляется удивительная запись: «5 июля у Михаила Григорьева и Федосьи Даниловой (это отец и мать Любови Михайловны см. Приложение. Генеалогическую схему) родилась дочь Глафира. Восприемники: помещица госпожа Глафира Алексеева Норова и сын госпожи Норовой Алексей Владимиров Норов».[32]
Теперь мы можем оценить эту запись по достоинству. Она является и подобострастным поклоном помещикам (имя дочери Глафира), и «утешением» для отца и матери «грешницы», а также напоминанием для хулителей и прочих недругов, что они (помещики) стали кумовьями с ее родителями и будут ее защитниками.
Вот и ответ, почему церковь так неистово молчала и закрыла глаза на прегрешения моей прабабушки. Но как же долго я разыскивал это доказательство!
В браке у Любови Михайловны, кроме моего деда Андрея, были еще дети: дочери Дарья и Федосья.[33] Были ли еще дети в этой семье? Судьба их всех, кроме судьбы Андрея, неизвестна. Документов об этом я не обнаружил. Как и каким образом существовала эта семья, также неизвестно. Казалось бы, поиск в дальнейшем исчерпал себя. Осталось только узнать, где и когда они оба, и Иван Семенович, и Любовь Михайловна, жили последние годы жизни, когда умерли и где похоронены.
И мне в результате поиска уже были известны эти сведения, но меня мучила загадка: когда же дед Иван был сдан действительно в рекруты и когда вернулся. Историю этих поисков я сейчас расскажу. Но прежде сообщу, что я нашел в архиве эти сведения, и загадка его судьбы была во многом разрешена.
Я перерыл множество дел, касающихся рекрутских наборов в Чембарском уезде, листал множество документов, которых до меня, казалось, никто и не касался, т. к. с листов их приходилось сдувать песок, которым засыпали писанное чернилами — так делали в прошлом веке: песок вместо промокательной бумаги. Но нигде не было даже намека на следы моего прадеда. Отчаявшись, уже решил посмотреть переписку, которую вели командиры частей, принимавших участие в Крымской войне, с Рекрутским столом Пензенской казенной палаты по части установления срока отдачи в прежние времена рекрутов.[34]
В боевых действиях у многих полков канцелярские дела были утрачены и командиры просили восстановить сведения по подлинникам формулярных списков рекрутов.
Такой безрадостной для меня переписки я прочитал очень много. Дело в том, что переписка-то касалась солдат очень старых возрастов, отданных в рекруты в 30-40-х годах, и к тому же зачастую письма приходили не по адресу. Так бы и бросил я это бесполезное чтение. И вдруг! Читаю в одном ответе умницы пензенского чиновника командиру полка: куда и, по какому году отдачи рекрутов надо писать. А надо писать... и перечисляет, где в 30-х и 40-х годах «были учинены в Пензенской губернии рекрутские присутствия» (т.е. по-теперешнему призывные пункты). И в конце письма приписка: «...а в 1854 г. рекрутское присутствие было учинено в... Нижнеломовском уезде».[35]
Как видите, Чембара в этом перечне нет. Вот и поверишь в мистику: командир полка в письме в Пензенскую казенную палату пишет в 1861 г. и просит сообщить, где рекрутские присутствия были с 1835 по 1840 гг., что вполне понятно: эти возрасты окончили службу, пора их отправлять в бессрочный отпуск. А на что ему рекруты 1854 года, им же еще служить и служить. Видно, знал он, что через 140 лет я очень буду нуждаться, как и он, в подсказке умницы чиновника?!
Мне естественно было предположить, что искать следы Ивана Семеновича нужно там, в Нижнем Ломове, а не в Чембарском рекрутском присутствии, где ничего я не обнаружил, да и не мог обнаружить: там рекрутов в 1854 г. не брали.
Ну, теперь-то было уже совсем просто: я заказал дела Нижнеломовского рекрутского присутствия за 1854 и 1855 годы[36] и, с трепетом листая формулярные списки – так зажгла меня эта интрига, – о рекруте под № 395 прочитал:
Иван Семенов Вырыпаев № 395
по летам от роду 20
рост 2 аршина 5 2/8 вершков[37]
волосы на голове – светло-русые
брови – светло-русые
глаза – серые
нос – средственный
рот – средственный
подбородок – средственный
вообще лицо – чистое
особые приметы – не имеет
из какого сословия принят – Чембарского уезда села Большое Щепотьево госпожи Норовой из крестьян
вероисповедание – православное
жена – Любовь Михайловна, детей нет
умеет ли читать и писать, на каком языке и не знает ли особенного какого-то мастерства – незнает (так написано. – Н. В.)
1855 год ноябрь 25 дня
Разрешилась загадка его отдачи в рекруты, а в мои прежние представления снова вносятся поправки: не два года в его семье не было детей, а почти полных три года и сомнительно, что он мог бы принять участие в боевых действиях в Крымской кампании.
Она закончилась через четыре месяца после его отдачи в рекруты. Он остался в Крыму служить и, конечно, видел, что наделала война в Севастополе. Он принимал участие в устранении последствий боев и в этом смысле он, конечно, ветеран Крымской войны.
Теперь становится понятным, когда он мог получить бессрочный отпуск: в 1865 г. и пойти пешком, а по-другому отставные не передвигались, домой, на родину. Видимо, не очень-то торопился он вернуться в родное село. Смутили его душу, наверное, слухи о поселении отставных солдат в Херсонской губернии, а такие слухи были. И правительству выгодно было там держать отставных. А также слухи о том, что не очень-то его ждут на родине. Только этим можно объяснить, что целый год добирался он домой и пропустил срок обращения в Пензенскую казенную палату с прошением о причислении к крестьянству в селе и выделении ему земельного надела.
Но, возможно, и по другой причине, например, из-за отсутствия резервных государственных земель, а наделы для отставных солдат выделялись только при наличии там таковых, или при согласии сельской общины. Вообще трудно понять, по какой причине он даже не обратился с подобным прошением.[38]
Какова была жизнь отставного солдата Ивана Семеновича, установить по документам не удалось. Возможно, в последние годы жизни он был в наймах и даже не в своем родном селе, а соседнем – Калдуссах. Умер в больнице 18 апреля 1905 г. в Чембаре. Из метрической книги Покровского собора: «...Умер отставной солдат из крестьян села Калдуссы Чембарского уезда Иван Семенов Вырыпаев».[39] Возраст указан 74 года, а на самом деле ему было 70 лет. Неверное указание возраста и происхождения (из крестьян с. Калдуссы) – косвенное доказательство того, что он, больной и беспомощный, умер на руках чужих людей. Так закончилась драма жизни моего прадеда.
(В той же самой метрической книге, через пять месяцев будет сделана запись о появлении на свет моего отца Петра Андреевича Вырыпаева).
Какова же дальнейшая судьба моей прабабушки, столь драматическая в ее ранней молодости? По документам удалось установить, что в дальнейшем Любовь Михайловна проживала в семье своего сына Андрея Ивановича в Чембаре (ф.158, оп. 3, д. 132): «Дом и сад в г. Чембаре по улице Широкой, владение №24. Владелец Андрей Иванович Вырыпаев, пришло в 1904 г. от Семена Архиповича Храмова. Куплено за 490 руб.»
После смерти Авдотьи Николаевны, матери моего отца, в 1911 году,[40] вместе с их второй дочерью (а ее внучкой) Клавдией, она приняла все заботы о воспитании моего отца (ф. 182, оп. 7, д. 488, л. 411). Любовь Михайловна прожила в семье Андрея Ивановича до 1918 г. и им же была похоронена. Сведения об этом мной были найдены в метрической книге г. Чембара за 1918 г. в Пензенском областном ЗАГСе.
Кончилась история жизни Любови Михайловны Вырыпаевой.
А с соседних листов метрик на нас дохнула людская трагедия. Там запись о расстреле заложников, «торговцев» и «капиталистов» (так называют их в метриках – Н.В.)
Драма жизни моей прабабушки Любови Михайловны завершилась в годину трагедии страны: война гражданская гуляла по России.
КАКИЕ ФАМИЛИИ МЫ НАСЛЕДУЕМ
Да, действительно, какие фамилии мы наследуем? Могут сказать, чего из этого делать загадку. Носишь фамилию отца своего и радуйся. Однако это ведь простая человеческая условность и не только отцовская, мужская линия, но и женская вправе претендовать на свое упоминание. И как только мы говорим об этом, сразу возникает осознание целого букета, целого набора кровных, генных связей, которые бродят в нашей крови, бродят в нас самих.
Начнем по порядку. Фамилия Вырыпаевых хорошо прослеживается до Лариона Ефремова, моего прапрапрапрадеда (четыре «пра», см. в приложении генеалогическую схему). Хотя в те времена и не было у крепостных крестьян фамилий, но нужно обратить внимание на особенность генеалогической схемы нашего рода. Я уже говорил, что моя прабабушка Наталья Афанасьевна происходит из рода Вырыпаевых. Все ее близкие родственники – отец, братья, дяди и др. появились в документах под этой фамилией.[41]
Ее отец Афанасий Матвеев был племянником моего прапрадеда Семена Михайлова сын которого – двоюродный брат Афанасия Матвеев, рекрут Иван Семенов носил фамилию Вырыпаев.[42]
Естественно, носители фамилий этих двух ветвей, имея общих прародителей, по мужской линии наследуют от них эту фамилию, фамилию давнишнюю, можно сказать, древнюю.
В детстве я часто негодовал, что у меня какая-то неинтересная фамилия и, как я думал, очень редкая. Теперь-то я знаю, что это действительно древняя фамилия, и она много раз встречается и у служилых людей – однодворцев из крепости Атемар, что была вблизи Саранска, и у «холопьев» в Нижнем Новгороде. Там такие фамилии упоминаются в XVI и XVII веках во всех вариантах: Ворыпаевы, Варыпаевы, Вырыпаевы и просто Воропай и др.
У В.И. Даля прозванье Ворыпаев от …вороп – старинного слова со значением «налет, набег, натиск, нападение, разбой». И второе значение: воропь, воропы – навой, ворот. Выбирайте, ребятишки, какое происхождение больше нравится. Все равно точного происхождения мы не узнаем.
Наряду с этой фамилией у наших щепотьевских предков была и уличная фамилия Жадаевы. Причем обе ветви Вырыпаевых одинаково охотно ей пользовались даже в официальных документах.[43]
Фамилия моей бабушки определилась сразу: при заключении брака в метрической книге она названа Авдотьей Николаевной Пендюриной (ф.182, оп. 7, д. 186, л. 355). Но я знал об уличной фамилии этой ветви родственников. Сосед по щепотьевской усадьбе моего деда Андрея Ивановича – дядя моего отца – дядя Вася Пендюрин (брат бабушки по отцу) имел уличную фамилию Селиверстов. И в архиве я нашел официальное упоминание этой уличной фамилии в деле о смерти бабушки моего отца – Натальи Афанасьевны (ф. 182, оп. 7, д. 172, л. 154).
Носителями этой фамилии, наверное, были мои пращуры не дальше прапрадеда, а вот фамилия Пендюриных претендует на более раннее происхождение, но здесь все, однако, непросто и, к сожалению, в архивах нет однозначных ответов на это.
Прослеживая родословную по линии Пендюриных-Селиверстовых, мы приходим к моему прапрапрапрадеду Василию Степанову (см. Приложение 1, генеалогическую схему) и его детям. Мы видим, что одна линия – Федора Васильева – дала мне бабушку Авдотью Николаевну, а вторая – линия – Григория Васильева – дала мне прабабушку – мать моего деда – Любовь Михайловну. А какая же была у нее девичья фамилия? Так и хочется сказать – Пендюрина. Ведь ее дед Григорий Васильев и Федор Васильев – дед Николая Селиверстовича Пендюрина были родными братьями. Однако не надо спешить. В образовании фамилий может быть много фокусов.
По поводу возникновения этой фамилии из прозвища можно сослаться на В.И. Даля: «…Пендюрить, есть много, набивать пендюх – брюхо». И второе значение этой фамилии у Даля: «пендюра – старикашка (смоленский говор)».
И я начал поиски доказательств девичьей фамилии моей прабабушки Любови Михайловны. По моим понятиям, нужно было разыскать в архиве документы ее ближайших родственников по мужской линии и проследить судьбу каждого вплоть до появления в документах их фамилий. Это и будет косвенным доказательством ее фамилии.
Но чтобы это сделать, необходимо просмотреть все метрические книги от времени первого упоминания в составе семьи имени Любови Михайловны и до 1880-х и далее годов, когда у крестьян появляются фамилии. Однако в делах архива по описи 7 оказался пробел – отсутствие метрических книг сел Чембарского уезда с 1871 по 1881 годы. Я долго ломал голову над этой загадкой и никак не мог ее разрешить. Понимая, что здесь, только в этом десятилетии и могут лежать ключи для расшифровки нужных многих фактов, я уже хотел бросить дальнейшие безнадежные поиски. Но случай или, как говорят, божий промысел (невольно станешь мистиком) дал мне в руки совершенно неожиданно оп. 7-а ф. 182 – опись метрических книг именно за эти годы.
Оказывается, ветхость этих документов заставила архивистов исключить их из постоянного документального оборота и вынести в специальную опись 7-а. Работать с документами по этой описи разрешает только директор архива, не более и не менее. Я уже завоевал у архивистов к этому времени какое-то доверие, и мне дали в руки эти документы, конечно, ветхие, но все еще удобочитаемые.
И действительно, именно в них лежали ключи к разгадкам многих фактов нашего родословия, в том числе разгадка девичьей фамилии моей прабабушки Любови Михайловны.
Началом поиска было упоминание имени Любови Михайловны в ревизской сказке 9-ой ревизии (ф. 60, оп. 4, д. 391, л. 231). Любови Михайловне в это время 14 лет, отцу ее Михаилу Григорьевичу 38, среднему брату отца Филиппу Григорьевичу должно было быть 30 лет, в 1837 г. он сдан в рекруты. Младшему брату отца Семену Григорьевичу 28 лет. У Михаила Григорьевича к этому времени, кроме дочерей Любови и Аксиньи, есть и сын Иван – пяти лет. По10-й ревизии в 1858 году у Михаила Григорьевича сыну Ивану 13 лет (ф. 60, оп. 4, д. 553).
У Семена Григорьевича сыновья Григорий – 5 лет и Петр – 1 год.
Вот эти ближайшие родственники по мужской линии и могут быть носителями семейной фамилии, если доживут, конечно, до времени, когда они (фамилии) у них появятся в документах.
И действительно, Михаил Григорьевич не доживает (ф. 182, оп. 7, д. 115, л. 697). Сын Семена Григорьевича, Григорий, в документах следов убедительных не оставляет. Остаются Иван Михайлов, Семен Григорьев и Петр Семенов.
И документы из описи 7-а открыли их фамилии:
«…Иван Михайлов – родной брат Любови Михайловны – в 1863 г. женился на Агриппине Артемовой,[44] а в 1880 г. «у Ивана Михайлова Клюшникова и Агриппины Артемовой родилась дочь» восприемником был Григорий Семенов Клюшников.[45]
Так появилось первое упоминание фамилии Ключниковых.
И вот еще подтверждение: «в 1878 г. умер от чахотки Семен Григорьев Клюшников – дядя Любови Михайловны». А в 1878-м на руках своей матери Олены Дмитриевой Клюшниковой «умер тоже от чахотки его сын Петр Семенов – девятнадцати лет».
Так была установлена девичья фамилия Любови Михайловны — Ключникова, или по-сельскому Клюшникова. Но самым убедительным доказательством подлинной фамилии было бы более раннее упоминание фамилии у рекрута Филиппа Григорьева. Филипп Григорьев, дядя Любови Михайловны, был сдан в 1837 г. в рекруты и в дальнейшем в документах родного села не появлялся. Видимо, судьба его была судьбой солдата, сгинувшего в Кавказской или Крымской войне. Попытка найти его имя в делах Нижнеломовского и Чембарского рекрутских присутствий не дали ничего: в формулярных списках за 1837 г. его имя нигде не числится.
Снова тупик? И снова из него выводит подсказка того самого умницы пензенского чиновника: «...в 1838 г. набора не было, люди, поступавшие в зачет будущих наборов, принимались в губернском городе Пензе». Но, вероятно, и в 1837-м, подумал я. И в формулярных списках рекрутов за 1837 г. Пензенского губернского рекрутского присутствия под №104 прочел:
Филипп Григорьев Пиндюрин № 104
20 ½ лет (это разночтение с ревизской сказкой 9-й ревизии, по которой ему в это время 18 лет. – Н.В.)
рост 2 аршина 6 5/8 вершка (169 см. — Н. В.)
волосы – русые
брови – русые
глаза – желто-серые
нос – средственный
рот – средственный
подбородок – крутой
вообще лицо – белое чистое
из крестьян г. Мосоловой Чембарского уезда села Большое Щепотьево
холост
грамоте и мастерства не знает
1837 г. ноября 9 дня (орфография подлинника – Н.В.)
Когда я занялся родословием Любови Михайловны, меня удивило отсутствие в документальном обороте упоминаний ее уличной фамилии.
Уличная фамилия очень частое явление в деревенском, крестьянском обиходе, всегда указывающее на неустойчивость фамильных традиций. Но вот последний факт, и встало все на место: и у этой ветви родословия тоже двойные фамилии.
И теперь, размышляя над этим, мы можем твердо положить, что фамилия Пендюрины – подлинная, древняя и восходит (см. Приложение, генеалогическую схему) к прародителю рода Степану Михайловичу Пендюрину (1731-1812 гг.), а фамилия Клюшниковы родилась из уличного прозвища и сравнительно молодая.
Она может происходить или от прозвища, или от рода занятий отца или дяди, или самой Любови Михайловны. И лишний раз подтверждает, что эта ветвь рода Пендюриных имела тесные связи с помещиками: ключники – это их прислуга, хоть и пользующаяся доверием, но все же прислуга.
В нашем родословии по женской линии рода Вырыпаевых было одно «белое пятно». Моя прапрабабушка Наталья Лукьяновна имела трагически несчастливую судьбу. По ревизской сказке 7-ой ревизии и по метрическим книгам за 1877 год установлены и год ее рождения – 1822-й, и время ее гибели – замерзла 6 декабря 1877 года.
И моя прапрабабушка Наталья Лукьяновна осталась в родословии без упоминания фамилии: такая трагическая гибель и такое обидное пренебрежение – полная безфамильность, – даже девичьей фамилии нет. Но должны же быть в документах следы ее фамилии – хотя бы косвенные.
Опытом поиска девичьей фамилии прабабушки Любови Михайловны я был уже обогащен, им и воспользовался.
Родилась Наталья Лукьяновна, как уже упоминалось, в 1822 году. Её отец Лука Степанович и мать Наталья Антоновна рано умерли и после себя сыновей не оставили. У деда Натальи Лукьяновны, Степана Тихонова, было четыре сына: Максим, Филипп, Дмитрий и Лука. Судьба была немилосердна к их семье – или умирали в молодом возрасте или сдавались в рекруты. Вот сын Степана Тихонова – Филипп в 1815 году[46] и был сдан в рекруты.
Я уже имел опыт поиска фамилий рекрутов по формулярным спискам. В формулярном списке рекрутов 1815 года он числится под №1184, как Кузнецов Филипп Степанов.
Родственников этой семьи преследовала рекрутчина. Внук Степана Тихоновича от сына Максима – Евграф сдан в рекруты в 19-летнем возрасте в 1831 году. И в формулярном списке[47] он числится за №531 под именем Кузнецов Евграф Максимович. Так прояснилась «волостная» фамилия этого рода.
Трагически погибшая моя прапрабабушка Наталья Лукьяновна не была бесфамильной – безродной. Она вышла из рода Кузнецовых. Кузнецова ее девичья фамилия. Не замели ее белы снеги Времени.
Сын Степана Тихонова Максим имел четырех сыновей: Евграфа, Логина, Ефима и Андрея. От Логина пошла «уличная» фамилия этой семьи – Логиновы.
Теперь мы, потомки, можем сказать совершенно определенно: мы наследуем фамилии Вырыпаевых-Жадаевых, Пендюриных-Селиверстовых, Пендюриных-Ключниковых, Кузнецовых-Логиновых. Эти фамилии мы наследуем по линии моего отца. А по линии моей матери (см. главы: «Наши шафтельские пращуры», «Подсот и наши подсотские пращуры») мы наследуем фамилии: Серебряковы-Матвеевы и Мельниковы-Артемовы.
Конечно, приводимый в этой главе ряд фамилий не охватывает, да и не может охватить весь пласт родов наших пращуров. Зачем же я их потревожил? Дело в том, что эти фамилии в селе существовали и существовали бы доныне, если бы село не стало выморочным, умирающим. А фамилии и роды эти продолжают существовать где-то.
Я не поленюсь и приведу еще раз далеко не полный перечень наследуемых нами фамилий: Вырыпаевы-Жадаевы, Пендюрины-Селиверстовы, Пендюрины-Ключниковы, Кузнецовы-Логиновы, Серебряковы-Матвеевы, Мельниковы-Артемовы.
Выбирайте, ребята, по своему вкусу. Все будет правильно и история наших родов не обидится. Вот через эти ниточки и корешочки мы и связаны со своим народом. А чем глубже будет понимание этих связей, тем крепче мои потомки будут стоять на нашей земле.
НА ПУСТЫННЫХ БЕРЕГАХ НЕВЕДОМОЙ РЕЧКИ
История основания села Щепотьева
и старинные судьбы нашего рода
Занимаясь поисками документальных следов своих пращуров, я постоянно натыкался на необходимость знания истории села, с которым были связаны их судьбы. Скудость сведений об этом вновь заставила обратиться к краеведам. И снова Александр Васильевич Тюстин наставил на путь истинный: «Ну, что мучиться-то? Открывай источники и изучай историю села» – и посоветовал, где и что можно найти.
Первые прикосновения к источникам дали удивительные результаты. История становилась на глазах и осязаемой и зримой. Ожили ветви генеалогического древа нашего рода: живая роса Памяти оросила его корни.
Первым литературным источником по истории села, для меня стала книга: М. Полубоярова «Мокша, Сура и другие», и на стр. 170 нашел: «...Деревня Щепотьево принадлежала в 1710 г. стольнику Ивану Ивановичу Щепотьеву, у него было здесь пять дворов с 23 крепостными крестьянами.
В 1717 г. деревня (была) разорена кубанскими татарами…»
Автор упоминает «кубанский погром» – набег на Пензенский край ногайских орд с р. Кубани.
В книге я не нашел ссылок на источники и, посчитав сведения недостаточно убедительными, обратился к архивным документам. И архивные документы открыли, когда и при каких обстоятельствах зародилось село.
Первые сведения об основании села Щепотьева были найдены в челобитной на имя Петра I. Эта челобитная написана в 1701 г. двадцатью шестью его служилыми людьми и обнаружена в Центральном государственном архиве Древних Актов (ЦГАДА, ныне РГАДА).[48]
В этом
документе говорилось, что 26 служилых людей Петра Первого «… били челом
Великому Государю,…а есть де в Саранском уезде (тогда эти места входили в
Саранский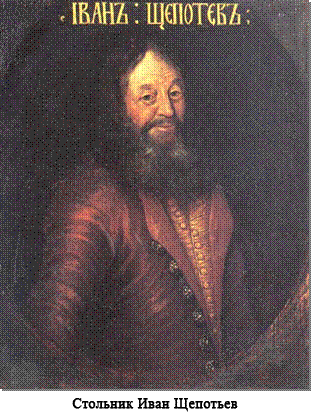 уезд. – Н.В.) порозжая земля и леса и всякие угодья…в поместья
и в оброк никому не отдано и никто теми землями не владеет. И Великому Государю
пожаловать велеть тех порозжих земель Дикова Поля дать им в указанное число в
оклады, да сенные покосы по пять тысяч копен человеку же, а леса и реки в
угодья по пять верст длины в поперечнике тож число на человека»… Среди этих
26-ти служилых людей были «Иван да Андрей Щепотевы».
уезд. – Н.В.) порозжая земля и леса и всякие угодья…в поместья
и в оброк никому не отдано и никто теми землями не владеет. И Великому Государю
пожаловать велеть тех порозжих земель Дикова Поля дать им в указанное число в
оклады, да сенные покосы по пять тысяч копен человеку же, а леса и реки в
угодья по пять верст длины в поперечнике тож число на человека»… Среди этих
26-ти служилых людей были «Иван да Андрей Щепотевы».
Во всех документах Щепотевы – основатели села – упоминаются как стольники. Кто это такие? «Щепотьевы старинный русский дворянский род. Род записан в VI часть родословных книг Рязанской и Тульской губерний» (Брокгауз и Ефрон, т.79, стр. 64). «Стольники – старинный дворцовый чин, приближенные царя» (Там же, т. 39, стр. 374). Большая Советская энциклопедия сообщает о стольниках как о «служилых людях московского чина» (БСЭ, т. 39, стр. 374). А те же Брокгауз и Ефрон сообщают, что «в стольниках служили люди самых лучших фамилий», т.о. не случайно эти служилые люди получили землю. Значит, какие-то заслуги у них перед Петром I были. Вот они, братья Щепотьевы, и стали основателями сел в нашей округе.
Стольник Иван Щепотьев – основатель села Большое Щепотьево, позже просто Щепотьево, а Андрей Щепотьев – Малого Щепотьева или просто Андреевки. Будучи связаными с поместьями в Тульской и Рязанской губерниях, они могли переселить на новые земли часть крестьян из тех имений.
Как видите, предположение о первых поселенцах из сел Центральной России косвенно подтверждается. Рассуждая об этом и пытаясь проникнуть в загадку истории возникновения Щепотьева, мы с моим отцом не зря вслушивались в его говор. Он не случайно отличался от говора близлежащих сел и хранил, возможно, память о наших далеких пращурах из Рязанской, Тульской или Смоленской губернии.
Осталось непонятным происхождение крестьян Малого Щепотьева – староверов.
Ну, это самое начало, а откуда же взял М. Полубояров в книге «Мокша, Сура и другие» дальнейшую историю села? Ведь у него там далее на стр. 170 написано: «В 1718 г. у Щепотьева стояли в деревне помещичий дом, шесть дворов крестьянских, в них 18 человек. В ХIХ в. село называлось Большое Щепотьево, по церковному Новотроицкое».
Архивисты подсказали и назвали возможный источник сведений.
Вот этот авторитетный и весьма любопытный документ XIX в.[49] Источниками для рукописи братьев были сведения из «Приказов Патриаршей палаты», теперь уже для нас малодоступных документов. И здесь находим множеством интересных сведений.
Вот, например, лист 19: «...Местность, в которой построено село Архангельское, до 1673 г. была порожая земля – «дикое поле...». «...имение Столыпина и его детей Афанасия, Семена, Василия Селиверстовых. (т.е. Селиверстовичей. – Н. В.). Полезное указание для нас о времени начала новой колонизации пензенских земель. А вот и записи о нашем селе на листе 657: «В селе Щепотьеве за стольником Иваном Ивановым сыном Щепотьевым двор помещиков и 6 дворов крестьянских с 18 человек обоего пола. В 1710 – 5 дворов с 23 человеками.
Деревня эта (в 1717 г.) разорена татарами, и крестьяне строятся дворами вновь».
И там же о строительстве церкви Живоначальной Троицы в селе Щепотеве (Большое Щепотево, Новотроицкое тож, Чембарского уезда):
«1726 г. в записной книге исходящих бумаг Синод. Казенного приказа… говорится: 1727 г. декабря 15 дня, по определению духовной Династерии, против прошения стольника Ивана Андреева сына Щепотева, Пензенского уезда вотчины его деревни Щепотевой крестьян старосты Михайлы Иванова со товарищи велено в деревне на угодном по церковному строению месту построить вновь церковь во имя Живоначальныя Троицы и той деревни положенные данные и пошлинные деньги искать с 1728 г., а именно с дворов: попова, дьячкова, пономарева, просвирщика с пашни покосы 95 приходских крестьянских душ...»
И на следующем листке: «…1728 г. января в 24 день напечатан указ о строении церкви Пензенского уезда с. Щепотева... Управителю по челобитной вотчины стольника Ивана Андреева, да Андрея Аврамова сынов Щепотевых Пензенского уезда деревни Щепотева, по сыску и свидетельству о приходских дворах и данной по той церкви землям и сенным покосам, построили вновь церковь во имя Живоначальныя Троицы».
Написано много, но для нас важно, что в 1710 г. деревенька была маленькая, но с трагической судьбой: в 1717 г. при набеге ногайской орды ее всю сожгли, людей частью поубивали, частью увели в полон, а частью разогнали по окрестностям, что через десять лет она возродилась и стала селом – стала иметь церковь. И неважно, что в источниках разночтения в именах, важно, что основатель села, давший ему имя, носил фамилию Щепотев.
Трагедия 1717 года, трагедия «кубанского погрома», осталась в истории сел: Щепотьева, Ростовки, Чембара и других ближних.
А вот в истории соседних Тархан нет упоминания о погроме. Да, по видимому, и быть не могло. Что впоследствии стало Тарханами, в то время еще не существовало, еще не обустраивалось, и по-прежнему было «…пустопорожним местом, принадлежащим служилому человеку Михайле Аргамакову».
И это косвенное доказательство того, что наше село родилось раньше соседних Тархан (Никольского, Яковлевского тож. – Н.В.).
И стало село Щепотьево на берегах тихой степной речки с удивительно красивым названием – Лёвка[50], медленно текущей среди кувшинок и белых лилий, с прозрачной родниковой водой в русле и темной в бездонных омутах озер, обильных рыбой и дичью. («Черное озеро» под Гавриловкой. Теперь уже обмелевшее и заросшшее. – Н.В.)
«Оное село состоит при речке Левке…» Так её не называли аборигены этих мест. По Полубоярову, предположительно, называли ее они просто Рекой – лей (по-мордовски ). Русские, пришедшие в эти места позднее, приделали уменьшительный суффикс -ёвка. Вот и получилось красивое имя реки Левка. Жители села называли ее Лёвкой. Под этим именем и я ее узнал с младенческого возраста.
Вот там, в этом селе, и есть начало нашего рода на земле пензенской. Оттуда началась наша родословная без малого триста лет тому назад. Такие вот мы «столбовые дворяне» с листов ревизских сказок.
Но нам нечего стыдиться нашего генеалогического древа. Для наших предков, зажатых в жестких тисках крепостного права, Россия, действительно, была порой мачехой, но именно они и подобные им – «податное сословие» в те годы и составляли соль земли, надежно оседавшую на ней, а не благополучные отпрыски счастливых дворянских родов – их владельцев, живших подчас далеко от этих мест.
Ну, а что же дальше? Почему Щепотьевы не оставили заметных следов в истории села в ХIХ в.? В моих сведениях и документах об этом было огромное «белое пятно», начиная от трети ХVIII в. до начала ХIХ в.
Среди владельцев села в ХIХ в. начало мелькать много разных фамилий. А Щепотьевых нет как нет даже в приведенном выше документе, нет упоминания Щепотьевых, а есть имя Эрнста фон Даннестерна.
Но вот, наконец, я нашел документ, который все объясняет и ставит на место и, будучи ключевым звеном, объясняет и прошлое села в ХVIII в. и его историю в ХIХ в. Этот документ называется «О передаче имения по наследству» и представляет собой «дело суда» в 1797 г. о судьбе этого имения и о владении им «Турнером Францем Филипповичем после смерти жены Александры, владевшей этим селом по завещанию отца ее, лифлядского дворянина Эрнста Эрнстова сына Фонданстерна».[51]
И поскольку требовалось подтвердить право владения отцом Александры, то в этом документе есть ссылка на купчую крепость на «покупку в 1764 г. этого имения Эрнстом Эрнстовым сыном Фонданстерном у лейб-гвардии Преображенского полка поручика Николая Алексеева сына Щепотьева». Если бы была найдена эта купчая, исчезло бы последнее «белое пятнышко» в истории села и судьбе его обитателей. А искать ее надо в ЦГАДА в фонде 1326, оп. 2, дела за 1764 г. И это подсказка моего отца Петра Андреевича Вырыпаева в его трудах.
Наша находка говорит также о передаче права владения этим имением малолетней дочери Франца Турнера – Анне, впоследствии ставшей Анной Францевной Мосоловой.
В дальнейшем
селом владели потомки Франца Турнера, так или иначе связанные родственными узами
с ним. Мужская ветвь Турнеров завяла, но зато женская ветвь дала массу
родственников: Мосоловых, Молчано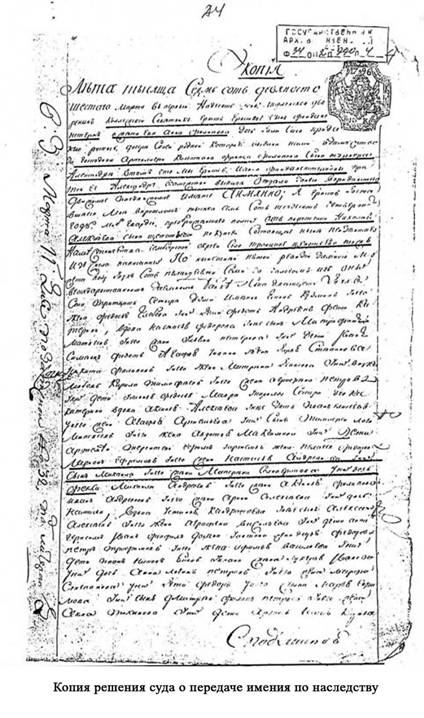 вых, Богдановых, Норовых, Смирницких.
вых, Богдановых, Норовых, Смирницких.
И неоднократные продажи этого имения – просто узаконение имущественных отношений между ними. И продавали наших предков они друг другу, как только возникала нужда в этом.
Этот найденный интереснейший документ содержит также множество сведений, которые позволяют занырнуть глубже в историю села Щепотьева и понять его и более поздние дни. Кроме того, документ буквально «набит» удивительными сведениями о наших предках. Они многие упомянуты на этих листах и узнаются по их именам из ревизских сказок 4, 5, и 6 ревизий. Но самый большой сюрприз принесли эти документы, упомянув не только имя одного из самых древних наших прародителей – моего прапрапрапрадеда Лариона Ефремова, но также и раскрыли род его занятий – старосты села.
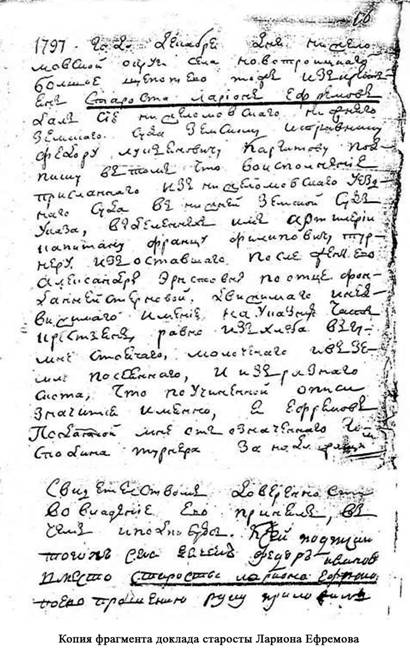 И это не
все. В деле приведено содержание его доклада о наличии в имении натуральных
продуктов на корню и в амбарах. Староста в жизни сельской общины играл большую
роль и был не только доверенным лицом помещика, но и наделялся определенной
властью.
И это не
все. В деле приведено содержание его доклада о наличии в имении натуральных
продуктов на корню и в амбарах. Староста в жизни сельской общины играл большую
роль и был не только доверенным лицом помещика, но и наделялся определенной
властью.
Чем дальше углубляемся в историю села и историю рода, тем скуднее документальное поле. Нет в архивах уже метрических книг: потому что и церквей-то еще нет, и всех других документов, с ними связанных.
В пензенских архивах нет и ревизских сказок 3-ей ревизии по Чембарскому уезду. Остались только сказки 4-ой ревизии. Древнее нет. Колодец вычерпан до дна.
И все же 4-ая и 5-ая ревизии дали нам сведения о наших предках- первых поселенцах на берегах Лёвки, в селе Щепотьево. Они раскрыли имена самых древних прародителей по линии Пендюриных: Михайлы Иванова (»1710-1784 г.) и имя его жены Лукерьи Федотовой (»1713-1782 г.).[52] Они назвали имя моего прадеда в 6 поколении – Ефрема. И это уже немало. Ну, вот и все? Но не надо спешить.
Вернемся к упомянутому раньше документу: «Ведомости по 3-ей ревизии Чембарского уезда». Третья ревизия происходила в 1761-67 годах и вроде бы не может много добавить. Однако прочтем этот документ внимательно.
Село Новотроицкое, Большое Щепотьево тож, полковника Эрнста фон Даннестерна… «Оное село состоит при речке Левке. В имении 246 душ против последней (т.е. 2-ой ревизии. – Н.В.) прибыло 86 душ», читаем мы в документе.
Но самыми замечательными являются сведения из граф, откуда у владельца взялись эти крестьянские души. Вот эти объяснения: «по плакату положенные 724 г.» И еще: «из крестьян Пензенского уезда».
Для того, чтобы понять смысл этих записей необходимо установить какое значение вкладывалось в слово «плакат». Первоначальное значение этого слова – объявление (БСЭ, т. 33). Толковый словарь В.Даля: «плакат – паспорт для людей податного сословия».
Оба эти значения раскрывают смысл этой записи. Переведем ее в понятия нашего времени: эти крестьянские души приписаны к данному селу по паспорту 1724 г. (время первой ревизии). Согласно условиям первой ревизии их владельцем объявлен стольник Щепотьев.
Полковник Эрнст фон Даннестерн купил это имение в 1764 г. «Ведомости» дают самое первое упоминание его имени и его написание. Это написание является, по-видимому, самым верным, и из него вытекает то, что он происходит из немцев, служилых людей времен Петра I или Екатерины II.
А запись в «Ведомостях» – «из крестьян Пензенского уезда» указывает, что они после первой ревизии никуда и ниоткуда не переводились, т.е. они там уже были. Вот этот документ и указал на первопоселенцев села Щепотьева и их прямых потомков. Такова документальная история нашего села и нашего рода.
А что осталось от изустных легенд о сих предметах, судите сами.
ЛЕГЕНДА О МОЕМ ДЕДЕ
АНДРЕЕ ИВАНОВИЧЕ ВЫРЫПАЕВЕ
Кто имеет право писать свои воспоминания?
Всякий. Потому, что никто не обязан их читать.
А. Герцен
Щепотьево. Мы всей семьей гостим у деда. Знойный день конца июля. Отец с дедом что-то делают на пасеке. Она около дома, в саду.
Меня туда звали, но для меня купанье в маленьком пруду посреди села интересней. И мы с друзьями там с самого утра. Время близится к обеду. Это время свято.
Надо бежать домой, иначе заругают. Приходят отец и дед. Дед подходит к умывальнику, моет руки, заставляет меня сделать то же самое, приговаривая: «Отмой трудовую тину». Усаживаются все. Он пропускает меня впереди себя и усаживает на лавку рядом с собой.
Мы сидим близко-близко друг к другу, и я начинаю свое ежедневное любимое занятие – вытаскивание пчелиных жал из его ушей, шеи, щек. Их очень много. От обилия пчелиных укусов давным-давно у него выработался иммунитет, и он к ним равнодушен, а меня это удивляет. Я так боюсь пчел!
Дед, несмотря на жаркую погоду, в пиджаке и жилете. Из жилетного кармана свисает серебряная цепочка. Дед вынимает серебряные часы, дает мне послушать их тиканье, открывает крышку, смотрит время, открывает заднюю крышку часов и заводит их маленьким ключиком, висящим на цепочке, дает посмотреть мне внутренности часов, захлопывает крышку часов и кладет в жилетный карман. Предобеденный ритуал закончен. Можно накрывать на стол. Так начинался наш обед изо дня в день, в одно и то же время, в одном и том же порядке.
Дед берет огурец, своим садовым кривым ножом разрезает его, солит и дает одну половинку мне, другую берет себе. И нет подобеденной молитвы за нашим столом. Дед к религии относится равнодушно и даже насмешливо глядит на фанатиков религии – «умоленных». И хотя в избе иконы были, но я ни разу не видел деда за молитвой, а сидим мы с ним в «красном углу», под образами.
Дед в селе почитаемый человек, и это переходит даже на меня. Ребята с оттенком уважительности зовут меня: «Коля Андрей Иванычев» Другого прозвища у меня не было, пока не стали купаться. Тогда появилась кличка «трехтитий» из-за большой родинки на груди.
 Дед
добился уважения среди односельчан трудом на приусадебном клочке земли. Идет
середина 30-х годов. Кругом колхозы и колхозники. Он же не член колхоза, он –
единоличник. А уважают его в селе за то еще, что он грамотен, за то, что один
из самых знающих пчеловодов, а кроме того, он охотник и председатель охотничьего
общества Чембарского района и еще страстный картежник. Он человек суровый, но
справедливый, человек, имеющий характер, – личность, человек скуповатый, но в
добрую минуту щедрый. Летом почти каждый день он вечерами обходит по
заведенному порядку окрестности села не просто ради любопытства, а заносит свои
наблюдения в большую книгу. Наука! И это тоже вызывает уважение односельчан.
Дед
добился уважения среди односельчан трудом на приусадебном клочке земли. Идет
середина 30-х годов. Кругом колхозы и колхозники. Он же не член колхоза, он –
единоличник. А уважают его в селе за то еще, что он грамотен, за то, что один
из самых знающих пчеловодов, а кроме того, он охотник и председатель охотничьего
общества Чембарского района и еще страстный картежник. Он человек суровый, но
справедливый, человек, имеющий характер, – личность, человек скуповатый, но в
добрую минуту щедрый. Летом почти каждый день он вечерами обходит по
заведенному порядку окрестности села не просто ради любопытства, а заносит свои
наблюдения в большую книгу. Наука! И это тоже вызывает уважение односельчан.
Он по собственной охоте обиходил родник, называет его «желобок», и почти все село ходит туда за родниковой водой. Родник существует доныне (2000 г.) и до сих пор жители села называют его «Андрейиванычев желобок». А нас c мальчишками обязательно посылали туда с чайниками и ведерками за родниковой водой к чаю.
Во дворе деда нет ни лошади, ни коровы, ни овец, ни поросенка. У него только пчелы, дающие ему средства на жизнь и пропитание, и... охотничий кобель Громил – огромный, с рыжими подпалинами, русский гончак, самый знаменитый во всей округе.
Сидеть рядом с таким дедом – мальчишеская гордость, он, видимо, понимает это и лукаво всегда смотрит на меня и всех нас.
Так мирно проходит обед, проходит послеобеденное время, все так же мы с мальчишками гоняем на пруд и в заросли на Солдатскую речку. Там вода холодная, покрыта ряской, купаться в ней плохо.
Приходит вечер. Всех ребят кличут домой, зовут и меня, заставляют вымыть босые ноги, вымыться и садиться за ужин – вечерний чай на свежем воздухе на крыльце дома.
Теплый вечер. В череде подобных вечеров невольно вспоминается другой удивительный вечер в одну из первых моих встреч с дедом в Щепотьеве. Тогда из Вехова нас привез к нему дядя Сима, муж моей тети Кати. Дед в тот вечер встретил нас радостный. И когда по темному мы собрались в избе, поужинали и уже «распивали чаи», он попросил, зная талант дяди Симы, спеть его любимые песни.
Были тихие потемки, по углам шелестели и жужжали мухи, под потолком горела и раскачивалась керосиновая лампа, тени колыхались на стенах избы, и в этих теплых потемках было уютно и таинственно. И когда вдруг зазвучал мощный, красивый бас дяди Симы, понятна стала настойчивая просьба деда: редко можно услышать подобной красоты пение.
А под конец этого удивительного, необыкновенного концерта дядя Сима устроил чудо: голосом, подбирая высоту тона, в окончании одной из песен, погасил лампу, висевшую далеко от него, под самым потолком избы. Такое производит впечатление и на видавших виды людей, что же говорить обо мне, маленьком мальчишке. Я до сих пор (спустя 70 лет!!), в воспоминаниях вижу перед собой голову певца и далеко от него висящую лампу с вытягивающимся, дрожащим, коптящим и внезапно гаснущим пламенем, вижу общее оцепенение, восторг и внезапную тишину, угадываю в тихой темноте лица слушателей.
Только потом, изучая в акустике явления резонанса и стоячих звуковых волн в трубах, я понял суть этого явления, суть этого чуда, на котором основана вся органная техника, и/ техника духовых инструментов.
Эта встреча с дядей Симой была предпоследней. Незадолго перед войной я снова встретился с ним. Нелепая его жизнь в те предвоенные годы, когда запросто люди пропадали и буквально теряли головы, ничего не оставила от его таланта. И невозможно было поверить, что сиплый, задыхающийся голос и тот необыкновенный, рокочущий не бас, а дар божий, принадлежали одному и тому же человеку.
И вот вновь теплый вечер… С соломенной крыши крыльца повисли на своих сетях пауки – к хорошей погоде. Вечерний воздух разлил свои ароматы. Волны пасечного, густого медового настоя докатываются из сада до крыльца. Стадо давно пригнали. Пыль, гомон, блеянье и мычание давно уже осели и только из оврага доносится скрип коростеля – дергача, по-местному; глухо стонет в камышах речки водяной бык – выпь, а с дальних гумен позади сада, чуть слышен вечерний бой перепелов да где-то уютно циркает сверчок. В этих блаженных сумерках мы пьем чай с медом, с пресными ржаными лепешками, со свежим сливочным маслом и сливками. И объедение, и блаженство от вечернего умиротворения...
Ну, чем не сельская идиллия!.. Однако…
Дед родился (это теперь мы знаем точно) в 1867 г. Был сыном «билетного солдата» и еще в течение долгих лет упоминался как «сын солдата» во всех документах. Так определялось его социальное положение и постоянно как бы напоминалось: солдатский сын – безземельный, не имеет полевого надела земли (например, в документах ГАПО: ф. 182, оп. 7, л. 347; д. 211, л. 270; д. 228, л. 417 и др.). Наверное, с тех молодых лет и определились его хозяйственные интересы – пчеловодство и его увлечение – охота, которую он, по-видимому, унаследовал от бар: уж больно она была похожа на эти барские утехи.
Дед строг в своем костюме, мало напоминающем крестьянскую одежду. Это, скорее, костюм мелкого чиновника-конторщика невысокого ранга, но знающего себе цену. Дед носит короткую бородку и очень коротко стрижет, а иногда и бреет голову. Однажды мой отец брил голову деда. Множество шрамов на голове удивило его и на вопрос отца, почему их так много, дед ответил: «Не будь этих шрамов, может быть, и тебя бы не было». И поведал историю своей женитьбы.
Ему было восемнадцать лет. Они приглянулись друг другу со своей будущей невестой Авдотьей. Ей шел семнадцатый годок, и приглянулась она не только ему одному. Ранние браки в то время были не редкость. Один богатенький в недобрый час заслал к ней сватов, но Дуняша оказалась девушкой с характером. Она не вышла к сватам, несмотря на настояние родителей. Сватовство не состоялось.
По понятиям того времени такой отказ означал оскорбление жениху. В селе секретов при себе не удержишь, и стала ясна причина такого поведения Дуняши – солдатский сын Андрюшка.
Осенью 1885 г. его подкараулили, затащили на погребицу[53] и избили. Дед был не из слабых, одолеть его оказалось непросто. На погребице рубили капусту, и тяпкой для рубки капусты его стали «убеждать», что зря он «пялит зенки» на Дуньку. Родные подобрали его без сознания, в луже крови. Отвезли его в больницу в Чембар.
А дальше случилось то, чего никто не ожидал. В один из дней Андрей разлепил веки на своей забинтованной голове и увидел рядом со своей койкой сидящую Дуняшу. Она поняла своим девичьим сердцем причину драки, поняла, что он пострадал из-за ее отказа сватам его соперника. Недолго думая, она бросила все и приехала за 25 верст в Чембар, в больницу ухаживать за выздоравливающим Андрюшкой. Это был вызов всему порядку вещей. После такого ее поступка свадьба Андрея и Авдотьи становилась неизбежной.
Все это мне рассказал мой отец. Я нашел документы о свадьбе деда: «.Второго октября 1885 г. обвенчались в Новотроицкой церкви села Большое Щепотьево: «солдатский сын Андрей Иванов Вырыпаев и крестьянская девка Авдотья Николаева Пендюрина. Поручители по жениху: Михаил Семенов Вырыпаев и Петр Макаров Глебов; по невесте: Степан Афанасьев Вырыпаев и Василий Кавалеров».[54]
Осень – пора свадеб на селе. И неудавшийся жених, у которого так позорно провалилось сватовство к Авдотье Николаевне, утешился сватовством к другой, более сговорчивой девушке.
Среди традиций и обрядов сельских свадеб непременно присутствуют шум, раздоры и драки. Воспользовавшись шумихой, на свадебный пир пробрались дяди Андрея. В сумерках и неразберихе они вытащили жениха в сени, или подстерегли его там, и избили так, что он перестал быть мужчиной. Кто это сделал, можно только догадываться, прямых улик нет, драка была общей, в темноте, и все были, мягко говоря, нетрезвыми. В селе секретов нет и, когда молодая пожаловалась на невнимание новоиспеченного муженька, разразился скандал. От стыда и позора он уехал в Баку, где вскоре и умер.
Такова легенда о делах, связанных с женитьбой деда. Легенда, услышанная мной от отца и много говорящая о нравах и порядках столетней давности, по драматичности и страсти мало уступающая иным романам. В рассказах отца назывались имена дядей, вроде бы Павел и Михаил.
Ну, а все же есть хоть какая-то правдивая основа этого или ее и следов нет? Я нашел сведения о предполагаемых участниках – героях свадебной драки в «ревизской сказке 10-ой ревизии владений помещицы госпожи штабс-капитанши Глафиры Алексеевой Норовой в селе Новотроицкое, Большое Щепотьево тож»: «1858 года мая 15 дня... Семья № 22. Семен Михайлов – 54 года, сын Иван – отдан в рекруты 1855 г., сын Павел – 14 лет, сын Михаил – 9 лет. Семья куплена у помещицы, госпожи Богдановой помещицей штабс-капитаншей Глафирой Алексеевной Норовой в 1854 году».
Эта ревизская сказка много раз изучалась мной с целью идентификации личностей предков, проводя сквозной поиск, как по восходящей, так и нисходящей линиям, вплоть до появления в документах фамилий. Я думаю, результаты даже у маловеров не вызовут сомнений. Копия ревизской сказки дана в приложении. Это семья моего прапрадеда. И в ревизской сказке указаны имена обоих братьев рекрута Ивана, впоследствии «билетного солдата». И можно теперь точно указать возрасты героев драки. В 1885 г. им было: Павлу Семеновичу – 41 год, а Михаилу Семеновичу – 36. Отцу Андрея – отставному солдату Ивану Семеновичу в то время было 50 лет, и он в драке участия не принял, но братьев, наверное, научил драться всерьез, по-солдатски, благо, времени после отставки было достаточно. А дядя Андрея, Михаил, был на его венчании поручителем (ГАПО, ф. 182, оп. 7, л. 355: «поручитель по жениху: Михаил Семенов Вырыпаев»).
Началась семейная жизнь Андрея Ивановича и Авдотьи Николаевны Вырыпаевых. Где, в какой семье началась она, найти не удалось, но, скорее всего, не в семье отца Авдотьи Николаевны. Там в это время хозяйствовала новая молодая жена отца Дуняши – Николая Селиверстовича, ее ровесница. И трудно поверить, что они могли бы ужиться. Они могли бы обосноваться в одной из семей дядей, например, в семье Михаила Семеновича Вырыпаева, или в семье отца Андрея.
Пошли у них дети, и в немалом количестве. Всего Авдотья Николаевна (бабушка Дуня) родила 13 детей. Осталось в живых только четверо, остальные умерли в разных возрастах. Последним, тринадцатым ребенком бабушки Дуни был мой отец. Назвали его Петром. До него был еще один Петр, проживший всего девять месяцев.
Я привожу все это для того, чтобы поняли всю тяжелую, беспросветную жизнь крестьян и крестьянок того времени. Все тяготы жизни отражались прежде всего на наиболее слабых, менее всего способных противостоять этим тяготам – на детях. Детская смертность крестьянских детей была ужасающей. И семья деда Андрея не исключение, а типичный пример этого явления. Таким же примером служила семья моего прадеда Николая Селиверстовича: от первого брака из десяти детей выжила только Авдотья, от второго брака из семерых детей дожила до взрослого состояния только дочь Агафья. И так в каждой семье крестьян. Рожали и хоронили. И не было просвета в этой доли, в этой череде несчастий, потому что рожать-то надо. Кто упокоит тебя в старости, кроме родной кровинушки? Только родные дети были и надеждой, и опорой, и упованием. Вот и превращались наши прародительницы из цветущих девушек в баб, почти постоянно ходящих на сносях и постоянно кого-нибудь из детей оплакивающих и хоронивших.
Метрические книги тех лет на каждом листе неслышно вопиют об этом. На каждом листе есть запись о смерти детей, а иногда сплошь только детские смерти. Умирали от коклюша, скарлатины, дифтерита, простуды, непонятной «младенческой», оспы, кори и т.д. и т.п.
Самым большим бедствием было летнее время. И тогда сплошь в книгах записи причины смерти – от поноса, т.е. от дизентерии, брюшного тифа, пищевых отравлений. А это значит, дети умирали от дурной пищи, антисанитарии, болезней грязных рук. Документов об этом так много, что их даже невозможно перечислить. Нам сейчас даже трудно представить это, а я еще в начале 30-х годов застал в селах картины: в избе мухота и зловоние, посреди избы висит люлька; от мух она закрыта пологом, но мухи находят дыры в пологе и ребенок до крови изъеден мухами. Ребенок кричит, и ему в тряпке суют в рот «соску» из жеванного ржаного хлеба; ребенок завернут в какое-то подобие пеленки, а иногда лежит и без нее; в холщовом дне люльки прорезано отверстие, под ним подвешен горшок и почти все время из отверстия в него что-то течет.
Это не изобретение ХХ века. Это в век ХХ притащились века XIX и XVIII и все прошлые. Позже все это прошло и вспоминалось как дурной сон. И в этом заслуга поколения моих родителей: знаниями и трудом своим изгнало оно из быта крестьян антисанитарию, невежество и болезни: дифтерию, скарлатину, корь, бытовой сифилис, трахому, оспу, дизентерию, такие обычные в селах в то время. И это сделали в сказочно короткие сроки, и это сделала революция, вооружившая своих молодых людей знаниями, и вдохновившая их на труд «во времена культурной революции», ради народного благоденствия.
Эту оценку я знаю со слов родителей и бабушки Тани – бабуси.
Предреволюционные времена, времена смены общественных формаций и мыслей всегда противоречивы и содержат сплошные контрасты. В столицах в это время контраст между дном жизни и вершинами общества был еще более оглушительным.
Напомню, что еще в середине XIX века высшие круги знати и дворянства упивались музыкой итальянских опер и заказывали зимой в Париже (!) землянику и доставлялась она оттуда курьерами (или мальпостами) и на это лакомство, землянику со сливками, приглашалась знать: друзья и нужные люди. В биографии Лермонтова есть упоминание об этом.
Вот и невольно приходишь к выводу: нет, не только экономические (по Марксу) отношения порождают революции, но вырастающий из этих отношений нравственный кризис общества рвет коросту и струпья на общественном теле, рвет эти отношения и изливается всё это потоками крови и нечистот общественных гнойников.
Первым ребенком в семье Андрея Ивановича была Мария[55] – тетя Маша. Она дожила до преклонных лет и я ее помню по приезде ее из Астрахани в гости к нам в Пензу в 1936 или 1937 году. В подарок она нам приволокла огромный рогожный куль копченой воблы. Она сыграла значительную роль в судьбе Андрея Ивановича.
В 1902 г. она вышла замуж за жителя Чембара. Жизнь безземельного крестьянина в селе была несладкой. И, видимо, тетя Маша, имевшая влияние на отца, уговорила переехать его в Чембар. В 1904 г. он купил дом и сад в Чембаре[56] и переехал туда. В этом доме в 1905 г. появился на свет мой отец[57], в этом доме в 1911 г. умерла от чахотки Авдотья Николаевна,[58] мать отца, в этом доме в 1918 г. умерла бабушка моего отца – мать деда Любовь Михайловна, в этом доме в 1927 г. появился на свет я. Там, в этом доме, и прошли детские годы моего отца, там и воспитывала его до 1918 г. бабушка Любовь Михайловна. Мой отец всю жизнь добром поминал свою бабушку и мать, и говорил о том, что и в возрасте они продолжали быть красивыми.
Дед в Чембаре работал сторожем в Крестьянском поземельном банке. И, кроме того, продолжал заниматься пчеловодством. Роясь в архивных документах, я неожиданно наткнулся на фамилию Мезеровский Иван Тимофеевич, почетный гражданин г. Чембара (ГАПО, ф. 182, оп. 7, д. 205, л.197). И мне припомнился рассказ Андрея Ивановича моему отцу.
Мезеровский был частным приставом г. Чембара и, имея желание завести пасеку, нанял деда пчеловодом. Однажды пасеку вывезли в соседний лес. Дед жил при пасеке в хибарке. В один из летних погожих дней на пасеку на двух экипажах Мезеровский привез своих гостей, чтобы угостить их медом, и удивить экзотикой пасеки. Желая показать свое умение в работе с пчелами, он приказал деду развести дымарь и приготовиться вместе с ним осматривать пчелиные семьи – работать с пчелами. Во время этого частный пристав вдруг начал нервничать, дергаться, затем бросил дымарь и другие инструменты и подался в лес. Прошло некоторое время.
Дед собрал все разбросанное, закрыл улей и вышел за ограду пасеки. Мезеровского нигде не было. Беспризорные гости уже начали волноваться. Вскоре с визгом из лесу побежали бабы, собиравшие в лесу малину. Из их суматошных криков едва поняли, что какой-то бородатый, во всем исподнем, как сумасшедший, носится с воплями по лесу и от этого в лесу «страсть как боязно». Начало темнеть. Гости поняли, что ждать нечего, и уехали. В сумерках деда кто-то жалобным, умоляющим голосом позвал. Дед вышел за загородку и увидел: бородатый, с затекающим от пчелиных укусов лицом, совершенно голый человек жалобно просит хоть какую-то одежонку, свою в лесу найти невозможно. Штаны только пошире… И деду показал нечто сизое, непомерно толстое: «Петя, не поверишь, в кувшин не влезет». Этот рассказ был при мне, и из-за раскатистого смеха деда и отца, я его хорошо запомнил, а что такое показывал деду Мезеровский, я понял позже.
Работа пчеловодом у Мезеровского имела для деда большое значение. Мезеровский выписывал книги по пчеловодству, и это позволяло деду изучать прогрессивные методы пчеловождения. Основой их были разборные рамочные ульи и искусственная вощина – новинки в то время не только в России, но и в других странах. Дед научился изготавливать искусственную вощину, сам изготовил рамочные ульи и одним из первых в губернии освоил весь комплекс приспособлений и устройств, для новых методов пчеловодства, благо Мезеровский не жалел денег для выписывания книг и приспособлений из Петербурга, Москвы, Нижнего и заграницы. После революции, во времена НЭПа Андрей Иванович имел уже свою собственную пасеку – более 100 семей и содержал ее в Щепотьеве, в ближнем лесу, в Исподней роще.
 Такая
огромная по тем временам пасека была в диковинку. Пасека деда была признана
образцовой и стала использоваться как учебно-показательная Пензенским пчеловодным
училищем. Уездное начальство часто наезжало к деду в гости, благо, поводом к
этому была также и охота, которую дед умел организовать с размахом.
Такая
огромная по тем временам пасека была в диковинку. Пасека деда была признана
образцовой и стала использоваться как учебно-показательная Пензенским пчеловодным
училищем. Уездное начальство часто наезжало к деду в гости, благо, поводом к
этому была также и охота, которую дед умел организовать с размахом.
Жить бы да радоваться на склоне лет. Но…
Не снидет благо просвещенья
На наши долы и холмы:
Нам в радость ближнего мученья,
Донос и яд людской молвы
Шли 1927-1928 гг. Началась коллективизация. Не видя для себя в этом большого вреда, дед одним из первых записался в колхоз и перешел в него вместе со всей своей пасекой.
И вот однажды в село приехал прокурор Чембарского района для того, чтобы разобраться, почему медленно идет коллективизация, разобраться с кулаками и раскулачиваем. На сельском сходе он вдруг, в качестве примера, кулаком назвал Андрея Ивановича. Дед не выдержал, вспылил и в ответ на эту неправду заявил, что он до революции был безземельным, всю жизнь работал по наймам, что большую пасеку создал собственным трудом. Никогда не держал ни батраков, ни работников, что содержать такую большую пасеку – это великий труд, и прокурор это хорошо знает, поскольку сам много раз был его гостем, что он первым записался в колхоз, но раз видит такую несправедливость, сам первый и выйдет из него.
И он тут же написал заявление об этом. Такого демонстративного поступка ему не простили и пасеку ему не вернули, обрезали у деда клочок земли около дома под садом и об использовании под пасеку леса запретили даже думать, а размеры приусадебной пасеки, если он вздумает ее возобновлять, согласно новым законам, ограничили количеством не более 20 семей. Кроме того, с него как с единоличника будут брать большие налоги.
Но и это не все, о его демонстративном поступке на сельском сходе будет извещено начальство вуза, в котором учится его сын, и будут они настаивать на исключении сына как классово чуждого элемента. Дед более всего был огорчен угрозой исключения сына Петра Андреевича из вуза и потерей пасеки. Но понимая, что они эту угрозу исполнят не скоро, таково свойство бюрократии, он обо всем сразу написал в Ленинград сыну и посоветовал: «Петя, заяви о разрыве со мной, об отказе от меня как отца. Сейчас модно об этом заявлять даже в газетах. Сделай это и пока ко мне в гости не приезжай. Это ненадолго – год-два, а мы, как были, так и останемся родными. Кто круто виляет, телегу ломает. Сломают и они свои головы». Отец выполнил этот совет деда и в ленинградской газете заявил о своем разрыве с отцом.
С этого момента дед ему уже не мог помогать материально. Это стала делать моя мама. И грозная бумага, пришедшая в Ленинград, стала уже просто грязной бумажкой, никто ее всерьез не принял.
Когда в 1931-1932 гг. мы приезжали к деду гостить, как он и предвидел, обо всем этом уже почти забыли и даже предлагали деду быть снова пчеловодом в колхозе. Но он отказался и остался единоличником, хоть и гонимым в прошлом, но уважаемым в селе человеком.
А районное начальство, как ни в чем не бывало, наезжало по старой памяти к нему в гости. Но пасека уже была маленькая, не более 20 ульев, как и требовал дурацкий закон, и он жалел, вспоминая, свою большущую пасеку, которую в колхозе загубили. Оставили пчел из-за жадности без корма на зиму, и они погибли. Обо всем этом мне рассказал мой отец.
В 1933-1934 гг. возникла проблема с моей учебой в школе. Я уже знал азбуку и свободно читал. Родители посчитали, что меня нужно отдавать учиться – я уже готов к школе. Но в то время в школу можно было поступить только с восьми лет, а я еще малолеток.
Решили оставить меня жить у деда в Щепотьеве, чтобы определить в сельскую школу. Там меня не спрашивали, сколько мне лет, а попросили почитать, и на этом формальности были окончены. Так я начал учиться и жить у деда. И узнал я из его быта столько интересного, сколь не узнал позднее из многих рассказов о нем.
Школа была рядом с церковью и раньше принадлежала ей, в ней располагалась церковно-приходская школа. Там было две классных комнаты. Учитель и учительница Никольские вели в них занятия, занимая соседние комнаты под учительское жилье. Рядом с пятиглавием церковного храма высилась высоченная колокольня,[59] игравшая огромную роль в организации жизни села. Церковь к этому времени была уже закрыта, хотя внутренняя роскошь убранства сохранялась, но уже печать запустения легла на нее. И только колокольня жила и давала знать ударом колокола, когда пора вставать, выгонять стадо, идти на работу, сообщала условным сигналом, кого ждут в центре села из местного начальства, в лихой час гудела тревожным набатом, а нам, мальчишкам, говорила: «Пришло время, бери книги, беги в школу учиться!» И бежали наперегонки со всех концов большущего села мальчишки и девчонки с холщовыми сумками (других тогда ни у кого не было), торопливо подбирая сопли и подбадривая друг друга.
В каждой довольно светлой классной комнате школы стояли два ряда парт. Один ряд с партами поменьше, а второй с партами побольше. В каждой комнате было по две классные доски, и учились в каждой из комнат по два класса: в одной – первый и третий, а в другой – второй и четвертый. Так в сентябре 1934 г. началась моя учеба в первом классе Щепотьевской неполнокомплектной сельской школы, куда за ручку меня привел дед.
Первые дни учебы сильно меня разочаровали. Я надеялся, что мне будут что-то рассказывать, читать интересные книжки, давать книжки с красивыми картинками и т.п. Действительность же давала суровые уроки труда: бесконечные ряды палочек, кружков, крючков и крючочков в тетради. А они никак не хотели быть прямыми, не ложились в строчки и лезли друг на друга вкривь и вкось.
Дома, делая уроки и видя печальные результаты своего труда, от обиды я часто плакал. Сердобольные домочадцы и соседские женщины охали, ахали и просили деда: «Что ж так мучают мальчишку, Андрей Иваныч, помог бы ему!» Дед на них сердито цыкал и наставительно говаривал, что это, мол, он должен сделать сам и пусть поймет и привыкает, что учеба – это труд, и знания без труда не придут сами собой, и добавлял: «Нам это внушали розгами, а он только от обиды плачет».
Но со временем руки мои окрепли, и все эти загогулины в тетради стали не такими уж трудными. А уроки стали интереснее, стали учить буквы и учиться их писать, и писать чернилами.
Отдыхом от этих занятий были походы с дедом в лес. В то время многие ходили на работу да и по дому в лаптях. Для их плетения нужно было заготавливать лыко. Лыко сдирают с молодых, прямоствольных липок. Стволики ободранных липок – лутошки. Вот за ними, за этим прекрасным топливом для самовара мы и ходили в лес с дедом. Лутошек в лесу было много, кучками они валялись в лесу.
Коллективизация разделила село на колхозников и единоличников. Единоличники были обложены непомерными налогами. И лутошки в лесу – это их работа: лыко для плетения лаптей и заготовка коры бересклета – сырья для изготовления гуттаперчи. Они часто бывали в то время, единственным средством для их существования.
Дома у деда осенью было не меньше забот, чем летом: ломать старые соты, вытапливать из них воск, из маломедных делать медовую сыту. Когда стало холодно, и появились малая снежная пороша и ледок, дед начал изготавливать искусственную вощину. У него были ручные вальцы для прокатывания фасонного, вафельного полотна вощины. Плоских вальцев у него не было, и он вышел из этого положения очень просто: распаренная липовая дощечка по форме и размерам листа вощины опускалась раз за разом в расплав воска, наращивая нужную толщину воскового полотна, ополаскивалась в баке с холодной водой, а затем торцы дощечки очищались ножом. И два восковых полотна, не приставших к влажной распаренной древесине дощечки, ложились в стопу. Главное в прокатке этих листов через вальцы были чистота работы и низкая температура вальцев. И дед достигал этого, не допуская даже намека на пыль, грязь и песок, страшно сердясь на нерях-помощников, когда они у него были.
Охлаждались вальцы ванночкой с чистой мыльной водой со снегом или льдом. Дело это было хлопотное, но до чего же интересное, которое в руках деда казалось неспешным, но кипело.
Когда все запасы воска были переработаны, однажды он позвал меня и сказал: «Пойдем делать сладкое и веселое!» И стал показывать, как делать сусло для браги. Теперь уже не помню рецепта. Знаю только, что рецепт был не очень прост. В нем были и сыта, которая получилась при ломке старых маломедных сот, и новый и старый засахаренный мед, и хмель, и еще что-то, и родниковая теплая вода. Все это приготовленное заливалось в два довольно больших старых уже, «обкуренных» бочонка, основательно забивалось пробкой, и они ставились в теплое место к печке.
Дня через три или четыре меня подозвал дед: «Иди, послушай, что в них делается». Я приложил к бочонку ухо, там были и шум реки, и вой ветра, и еще, еще многое. «Ну, каково затворили брагу?» – подмигнул мне дед.
Следующие недели дед переменил занятие: за своей конторкой долго что-то писал, щелкал счетами и был очень сосредоточенным. Потом занялся охотничьими делами, приводил в порядок ружья, снаряжал патроны и несколько раз в своих постоянных обходах окрестностей брал с собой ружье и Громила. Когда же в этих обходах Громил был не нужен, то его сажали на цепь, и дед с ружьем уходил тайком от него. Но каким-то чутьем кобель понимал обман и, бедный, изливал свою досаду в таком непрерывном, тоскливом вое, что выдерживать долго это было невозможно. Но, как только его отпускали, он, обежав несколько раз вокруг дома, в конце концов находил след деда и уносился сразу из виду своим собачьим галопом. Иногда дед выговаривал, что, мол, слишком рано его отпустили, но что сделаешь с собачьей охотничьей страстью и необыкновенным его чутьем!
Когда в Тарханах загуляет очередная собачья свадьба, он обязательно будет там. А ведь между Щепотьевым и Тарханами не только 7 км, но и две большие рощи – Исподняя и Долгая – в стороне еще и Кругленькая. Сколько же лесных запахов они дарили!
В один из дней после очередной проверки готовности браги дед вечером сказал почтарю: «Сообщи, кому надо, чтоб приезжали». Дня через три из чулана вытащили огромный, красной меди, двухведерный самовар, а маленький убрали. С дедом во дворе нарубили гору чурок из лутошек. Я не совсем понимал, зачем все это – нарубить лутошек, для одного чаепития и мне невелик труд. А зачем же всё это и зачем их столько?
Однажды, придя домой из школы, я увидел, что в доме полно каких-то чужих людей, во дворе на сворках полно чужих собак. Громил сидит отдельно на цепи и ведет себя как-то странно: не лает, но постоянно поскуливает. А в черной избе стоит начищенный медный самовар и пускает пары. Он будет под парами еще недели две непрерывно. Вот когда пойдут в ход лутошки!
Вскоре гости угомонились и деловито расселись за столом. Началась картежная игра, пошла в ход брага, беседы стали оживленней и продолжительней и продолжались далеко за полночь. Вскоре я уснул. Утром уже засветло я проснулся, вышел из комнаты, где спал. Под потолком горела лампа, хотя нужды в ней уже не было, шумел самовар, а за столом шумели игроки. И в эти дни все часы смешались: я ложусь спать, они играют, просыпаюсь ночью – играют, ухожу в школу – играют, прихожу из школы – все спят, ночью просыпаюсь – играют, утром просыпаюсь – спят – лампа горит и т.д. (перпетуум мобиле).
Отец мне рассказывал, что дед и гости играли в штосс. Штосс – одна из самых азартных и примитивных игр. В эту игру теперь играют сравнительно редко, но именно в нее играли игроки в «Пиковой даме» у Пушкина и она же упоминается у Лермонтова. Подробнее см. в книге Ю.А. Федосюка «Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века».
Так продолжалось, пока вся брага не была выпита, пока не улеглась игрецкая страсть и не проявилась другая.
Однажды, придя из школы, я увидел перемену в настроении всех, а их было человек 10 или 12. Они сидели за столами чинно, торжественно обсуждая дальнейшие планы. Дед был за главного, и когда он начинал говорить, все смолкали и смотрели на него. Весь оставшийся день они хлопотали и проверяли придирчиво свое снаряжение, осматривали друг у друга ружья, обсуждали стати собак, которых привели с собой в этот раз. Столько в этом было трепета и страсти, что походило прямо на культовое поклонение.
Первая пороша уже легла, и утром следующего дня они вместе с дедом отправились со всей сворой собак на охоту. Дед не зря рыскал по окрестностям, разведал, как надо. Вечером все появились оживленные и довольные охотой. Взяли несколько зайцев и лису, хвалили Громила.
Это он вел за собой стаю гончих своим хриплым, особенным голосом, а сейчас, как будто понимая, благодарно смотрел на всех.
Охотничье
снаряжение деда тоже на отличку. Только у него охотничий рожок для подманивания
собак и не одно, а три ружья. И ружья особенные. Одно из них бельгийской работы
Голан-Голан 12 калибра (потом  это я определил по клеймам на стволе), а
также тулка 16 калибра – утятница, как ее называл дед. Но самым удивительным
ружьем была старая-престарая шомполка неизвестно какого калибра. Однажды, когда
отец собрался на охоту, дед посоветовал: «Зачем берешь ружье и кучу патронов. Заряди
шомполку и возьми одну ее, только не бей одиночных уток, а с одного раза завалишь
стаю, тем охота и кончится. И ни в коем
случае не бей дуплетом – и на ногах не устоишь, и синяк-кровоподтек на плече будет».
это я определил по клеймам на стволе), а
также тулка 16 калибра – утятница, как ее называл дед. Но самым удивительным
ружьем была старая-престарая шомполка неизвестно какого калибра. Однажды, когда
отец собрался на охоту, дед посоветовал: «Зачем берешь ружье и кучу патронов. Заряди
шомполку и возьми одну ее, только не бей одиночных уток, а с одного раза завалишь
стаю, тем охота и кончится. И ни в коем
случае не бей дуплетом – и на ногах не устоишь, и синяк-кровоподтек на плече будет».
Шомполка заряжалась по-старинному, с дульной части. Дед брал ее вторым ружьем при охоте на волков.
У деда ревматизм, поэтому и осенью, и зимой он бережет ноги. Осенью надевает болотные сапоги с длиннющими голенищами и особой выделки и работы головками. За сапогами тщательный уход и оберег. А зимой, когда собирается на охоту, надевает мягкие и теплые, специальной валки валенки с голенищами до самого паха.
Вот и в этот раз он одет по-зимнему в этих валенках, в стеганых штанах, в полушубке черной дубки и в шапке-ушанке с черным большим козырьком (чтоб при прицеливании не мешали ни волосы шапки, ни солнечные блики, так объяснил мне дед).
Дед, довольный охотой, снимает ружье и охотничий желтой меди рожок и бросает в угол белую, забрызганную кровью лисы или зайца простыню. Она ему нужна, чтобы, когда он спрячется в засидке, звери его не сразу заметили на снегу.
Я рассказываю, наверное, о последних охотах деда по чернотропу и первой пороше. Он все чаще бывал нездоровым, и я застал лебединую песню этих коллективных забав охотников Чембарского уезда. После смерти деда я уже никогда не видел ничего подобного.
Дед ласкает Громила, треплет его по холке, а тот виляет телом и всем видом выражает преданность и восторг. Видно сразу, что они большие приятели и, подобно близким друзьям, без слов понимают друг друга.
Громил – член семьи. Он на особой диете. И он никогда не будет обделен едой. Она для него готовится специально. У него особая посуда. За ним ухаживают и следят за его здоровьем: иногда ему делают клизму и для этого есть специальная клистирная груша. И ничто не омрачает добрых отношений хозяина и пса. И ничто не предвещает трагической развязки этой дружбы человека и собаки, наделенной удивительно сильным охотничьим инстинктом. Но то ли необыкновенное чутье, то ли неправильное воспитание его щенком, то ли и то и другое вместе сгубили Громила.
Сельский пес, он не видел разницы в подворьях, и чужие дворы также считал своими. И если у избы дома непорядок с окнами – окно застеклено клинышками (а где возьмешь хорошее – цельное) – тогда беда. Он выдавит эти стекляшки, заберется в избу и, несмотря на то, что он не голоден, вкусное обязательно найдет и отведает.
Это случилось без меня. Меня уже увезли в Пензу продолжать там учебу в школе. Однажды люди прибежали к деду и с возмущением начали ругать его. Оказывается, Громил, гоняясь по селу, заметил, что хозяйка одной избы ушла, и в избе никого нет, окно со стеклами из клинышков, а из него текут такие вкусные запахи, что устоять невозможно. Он привычно выдавил стекла, залез в избу и нашел источник ароматов в печке. Влез в нее и начал «дегустацию» кухни хозяйки. На беду она вошла. Увлеченный едой в печи, он ее не заметил, и только когда его огрели ухватом, он выскочил из нее и махнул в окно, вынеся его на себе.
Деда привели к этой избе, и он увидел, какую беду сотворил его друг. Развороченное и полностью разбитое окно, а на дворе ведь уже было морозно. В гневе дед был суров и несдержан. Он кинулся домой, взял ружье, крикнул Громила и во дворе застрелил его. Увидя результат рокового выстрела, дед в сердцах чуть не разбил вдребезги ружье, упал на постель и, по словам очевидцев, горько зарыдал: «Что же я наделал? Никогда у меня не было и уже никогда не будет такой собаки».
Он не дал снять с него шкуру. Попросил его похоронить в соседнем заброшенном саду: сам это сделать был не в силах. В память о своем друге он раздобыл щенка русской гончей и назвал его Громилом, но сам же говорил, что до статей Громишки ему далеко (этот был и меньше ростом, и окрас не тот – больше черного на чепраке – и гонец он был хуже).
Второго Громила мы и застали летом следующего года во дворе деда. Трагедию своего замечательного пса отцу рассказал дед, а со слов отца и очевидцев этого дела узнал и я. А на ружейном прикладе так и осталась щербина, как память об этой трагедии деда и его любимого пса...
Глубокой осенью 1936 г. я играл с ребятами во дворе нашего дома на Рабочем городке в Пензе. Вдруг ребята меня окликнули и подвели к женщине. Она спросила, как меня зовут, действительно ли я проживаю в этом доме и по этому адресу, и вручила мне бумагу и попросила за нее расписаться. Это была телеграмма о смерти деда. В тот же день отец уехал проводить в последний путь деда. Возвратясь из Щепотьева, он почти ничего не говорил о похоронах своего отца.
Летом следующего года мы поехали в Щепотьево, и там набожные старухи с возмущением выговаривали мне: «И дед твой, и отец – грешники и страшные безбожники. Устроили из похорон чуть ли не свадьбу: палили из ружей и песни пели». Я рассказал об этом отцу. Он мне ответил: «Не верь этим бабам. Мы похоронили твоего деда с честью и достоинством. Со всего района съехались его друзья и охотники. Приехали со своими ружьями. На могиле деда они отдали ему последние почести – прощальный салют. А на поминках исполнили его завет: спеть его любимые песни, а нам его завет и пример: никогда в жизни не предаваться унынию».
Пасека деда осиротела. Летом нужно часто бывать на пасеке. Пчелы, коль не доглядишь, могут отроиться, и необходимо следить за этим. У отца не всегда было время для этого. И меня стали привлекать к этому делу, поскольку я уже преодолел панический страх перед пчелами и умел снимать (огребать) рои. Первый свой рой я снял, когда мне было девять лет. Так я, сидя в хибарке на пасеке, оказался читателем пчеловодных книг деда и его пасечных журналов, которые он вел, когда пасека была большой.
Журналы – это так называемые амбарные книги, в них дедовы записи: было их шесть или семь книг. Кроме того, были разные инструменты, а также термометры для измерения температуры воздуха. Они особенно меня поразили. Во-первых, на них было написано Reaumur и был еще двойной термометр. Только потом я узнал, что шкала Реомюра была общепринятой в России до шкалы Цельсия, до 1918 г. И потом я узнал, что двойные термометры – это психрометры и служат они для измерения относительной влажности воздуха.
А в журнале было несколько разделов: дневниковые записи температуры и влажности воздуха, силы и направления ветра, состояния погоды. Следующий раздел дневниковой записи – о состоянии растительного покрова, т.е. флоры лугов, посевов, лесов, медоносы в округе и некоторые фенологические наблюдения. Последующий раздел – состояние пасеки, лёт пчел, направление лёта, характер лёта отдельных номеров ульев, прибыль или убыль веса на контрольном улье на весах и т.д.; большие разделы журналов – оперативная работа на пасеке и памятки – планы работы с отдельными семьями, а также родословная маток и оценка их качества.
Заключает журналы раздел: чисто бухгалтерские выводы и оценки, сколько дала каждая семья и выводы о дальнейшей перспективе ее использования, итоги работы пасеки: сколько потрачено средств и каков итог хозяйственного года. Теперь-то я понимаю, какие сокровища попали в мои руки, а тогда я только обалдело глядел в запись деда 1928 г.: прибыль на контрольном улье – 22 фунта (т.е. 9 кг) в день. На пасеке бедствие: от высокой температуры и переполнения медом, соты не выдерживают и под своей тяжестью рвутся – мед течет из летков; выкачивать мед не поспевают, да он притом еще и не созревший. Бывает, оказывается и такое.
Куда потом девались эти журналы, я не знаю. Но все же из чтения их я вынес и что-то полезное и потом при технических исследованиях старался следовать примеру деда. А своим сотрудникам говаривал: «Стыдно нам, имеющим высшее образование, отставать в скрупулезности и методичности от людей, подобных моему деду, имеющих за плечами груз знаний, вынесенный только из ЦПШ» (церковно-приходской школы).
ВЁХОВО
Читатель, мы вместе и не заметили, что свободно носимся в пространстве и времени. В этом замысловатом плавании по волнам памяти мы и отправляемся в глубь времени, делаем остановки, забегаем вперед и снова возвращаемся назад, в иные времена и земли.
Но вместе с тем это рассказ о реальной поездке по родным местам. Эта поездка сама просится в рассказы о старине и становится сюжетным стержнем нашего мысленного путешествия. И не надо сильно ругать меня за эти извивы пути. Так требует сама канва, сами сюжеты рассказа, неизбежны повторы и другие особенности мной выбранной формы повествования.
Кончилось длительное знакомство с нашими щепотьевскими корнями. Пора нам продолжить нашу поездку – возвращение с Урала в родные места.
В тот раз в Щепотьеве мы долго не задержались. Часть нашей семьи осталась у деда, а меня мама повезла в новое для меня место. Моим родителям нужно было устраиваться на новое место работы, и в этих хлопотах и неустройстве я был бы им помехой. Решили оставить меня у моей тети Екатерины Семеновны, где за мной вместе с моими двоюродными сестрами и еще маленьким братишкой будет приглядывать бабушка Таня. И поехали мы к ним в маленький поселок Вёхово. Теперь его уже нет – исчез, как исчезла деревня Шафтель и многие, многие другие.
Езда по дорогам на лошадях в то время имела одну особенность: лошади еще не привыкли к редким на дороге автомобилям, пугались и в испуге несли, разбивая в безумстве телеги и уродуя седоков. И как только увидел машину, не мешкай, спрыгивай с телеги, бери лошадь под уздцы, прикрывай ей глаза, поглаживай, успокаивай животину. И нужно было остерегаться: как можно раньше услышать шум машины и не зевать.
В этом деле я со своим свежим мальчишеским слухом всегда получал похвалу: первым услыхал шум еще невидимой за увалами машины, первым услышал далеко-далеко ее странный сигнал тех лет: не то ослиный рев, не то хриплый собачий вой.
Мы проехали по жаркому степному раздолью мимо кургана «Лысая гора», по тенистой лесной прохладе и оказались на опушке леса на берегу мелкой прозрачной речушки у поселка из нескольких домишек, притиснутых к кромке леса. Мои двоюродные сестры-ровесницы и мои новые друзья повели меня оглядывать окрестности, знакомить с тем, что было примечательного и чего нужно оберегаться: «Вот речка, на ней узенький мостик, а за речкой болкашинские мальчишки – уж такие драчуны». За рекой виднелись вдалеке избенки Болкашина, «Туда, на тот берег, не ходи, они дерутся, – предупреждали сестры. – «А еще не держи долго в воде, в речке, руки. Там живет такая рыбка, сучкой ее называют: как присосется к пальцу, все из него и высосет, а потом он и высохнет».
Запугать меня, ничего такого не ведавшего, большого труда не стоило. И я только потом, будучи взрослым, понял, что речь шла о речной миноге,[60] а рассказы о ней шли от взрослых. Они, видимо, знали или видели, что миноги присасываются к рыбам и губят их, а дети понимали это по-своему.
Вскоре началась молотьба. В таких маленьких поселках, как Вехово, в ту пору было совсем мало машин и механизмов. Молотили хлеб, как встарь, цепами. Совсем уже забытое стародавнее крестьянское дело. Теперь даже мало кто знает, что такое цеп, и уже никто, наверное, не вспомнит музыку этой работы в четыре, шесть, восемь цепов. Та-та, та-та-та, та-та! – подлаживайся, не мельтеши, улавливай ритм, темп и берегись: ритм нарушишь, того гляди, и руки отсушит да и цеп изломаешь – попадешь под цепы других.
Как в других тяжелых сельских работах, нужны в этой молотьбе и физическая сила, и выносливость, и ловкость и уменье вовремя подготовить все, что нужно. И все своими руками, своим горбом. В крестьянском укладе той поры еще сохранились отголоски старины, и большинство дел было основано на ведении натурального хозяйства: «все свое и ни от кого не завишу».
Там в Вехове я впервые увидел эту молотьбу и все приготовления к ней. Однажды утром рано меня позвали, посадили на телегу, и мы поехали выбирать место для молотьбы – ток, выжигать траву на нем. Нашли подходящую поляну, а может быть, и ранее ее знали. Привезли солому, настелили на этой поляне и подожгли, размели несгоревшие остатки и, где трава сгорела плохо, еще настелили и подожгли солому. Потом смели золу, полили водой, укрыли соломой, и пусть ток подсыхает и подходит, укрытый ею. (К этому времени уже ни в одном из сел не осталось овинов и риг – крытых сараев, постоянных мест для молотьбы в осеннюю непогоду и зимой. В них, по рассказам старожилов, на току дерн срезали на глубину штыка лопаты, настилали, тщательно выравнивали и прикатывали слой солонцовой глины. Высыхая, она становилась твердой. И это было самое лучшее токовище). Навозили с поля снопов. Это было самое радостное дело для детей. Править лошадью с возом и пригнать повозку обратно –друг перед дружкой, в драку.

В один из дней собрались молотить. В каждом из крестьянских трудов есть особые мастера. Они в особом почете, до них расти да расти. Это я понял, когда косил потом вместе с мужиками и луга на сено и хлеба. Идет впереди тебя, вроде и сил не прилагает, а просто косой помахивает, но ряд шире моего чуть не вполовину и трава за ним на ряду – вал, не перелезешь. Пройдет ряд, и вроде он не устал, но прилег на траву и уже спит, через 3-5 минут встанет, будет свеж и весел. А с меня пот градом и, когда косу ведешь, ребро за ребро заходит, а ряд и уже и на ряду трава жиже, и коса моя ревет, а у него только посвистывает. И придти в себя при роздыхе я не успеваю.
Такие же мастера и на молотьбе. Название им забойщики. Это они задают темп и ритм молотьбы. И о многих говорят: «Вот у Ваньки сила на молотьбе: с одного удара сноп пересекает. Как вдарит, так колосья и отлетают». А забойщики, не изменяя темпа молотьбы, меняют и характер, и направление ударов. Нехитро ударить по настеленным снопам сверху. Но попробуй-ка орудовать цепом так, чтобы солому, снопы приподнять над током, ударяя по хлебному настилу снизу и вытрясая зерно, запутывавшееся в соломе. И все это в хорошем темпе и ритме, не нарушая работу цепами других. Многие мастера этого дела даже не тратят времени на развязывание свясел. Цеп в его руках перешибет свясла и ровно расстелет по ходу молотьбы на току снопы или то, что от них осталось.
Когда мама, а потом и папа, показывают, что они умеют это делать, что работа и жизнь в городе их не изменила, то уважением и восхищением светятся лица молотильщиков. Ну, и я горжусь тоже: вот какие у меня папа и мама, все умеют и в грамоте, и в сельской работе! Я потом взрослым в военные годы пробовал молотить цепом хлеб. Ничего у меня не получалось. Для приобретения навыка в этом деле нужны время и труд.
Могут спросить, а что же после молотьбы? Ведь зерно-то еще надо выделить изо всего, что вытряслось из обмолоченных снопов: и комки грязи, и головки сорняков и мякина и многое, многое другое. И все это называли ворохом. А значительно позже «любители точных выражений», которым нравится нас называть не пензяками, а пензенцами, ворох называли «хлебной массой».
Ворох веяли на ветру. Ветерок, деревянная лопата, метла с длинными, мягкими березовыми ветками, уменье и бесконечное терпение веяльщика – и ворох превратится в золото жита, в зелень мякины и серую шубу охвостий. Все это пойдет потом в дело, все, что хоть что-то содержит мало-мало ценного, ничего на току не останется.
Вот и подбрасывает веяльщик лопатой невеянный хлеб из вороха, рассыпая так, чтобы зерно не летело скопом, а разлеталось веером. При этом силу порывов ветра и силу броска соразмеряя так, чтобы оно падало, по возможности, в одно и то же место. В этом состоят навык и сноровка веяльщика. Раза два перевеет, а потом и не поверишь, что совсем недавно в ворохе почти не было видно зерна, а вот теперь и соринку-то в зерне не найдешь. «А всего-то делов» – ветер сдул мягкий мусор, а тяжелый аккуратно и нежно был сметен метелкой, ловкими руками веяльщика.
Вот и все приемы уборки хлеба: косьба, снопы, молотьба цепами, веянье. А вот горох, чечевицу, гречиху молотили по-другому: настелят из них на току круговой вал и гоняют лошадь с телегой по этому кругу. А потом веют. Косили эти хлеба, кроме гречихи, простой косой, не крюком. Он будет запутываться так, что крюк не протащишь.
Я мало в это время видел свою тетю Катю. Она все время в работе. Утром мы спим – она уже в поле и только вечером за ужином мы собираемся вместе. И я чувствую, как от нее идет ко мне тепло и ласка. Это потом я понял, что значит для женщины «молочный сын», а для меня моя «молочная мама» тетя Катя.
Вечер, и можно отдохнуть от суеты дня. А вокруг чудесная природа Вёхова, речка Большой Чембар, дальние виды на окружающие села, гора Седло и лес, к которому приткнулось Вёхово. Летние сельские сумерки с мычаньем коровьего стада и блеяньем овец, запахи свежей скошенной травы и парного молока. Как давно все это было!

ВАЛЕНКИ, БЛИНЦЫ И «ЖАВОРОНКИ»
Лето сменилось осенью. Однажды, когда вечером я и бабуся сидели на крыльце, вдруг вдалеке услышали вой. Бабушка послушала, послушала и сказала: «Ну, начались у волков осенние посиделки. Слышишь, как кличет других: идите сюда к Седлу, одного меня тоска заедает». Она говорила спокойно, а мне от этого воя стало жутко, и я почувствовал себя животиной с поднимающейся шерстью на загривке.
Дни становились короче и короче. Однажды тетя Катя позвала меня и сказала: «Ну-ка, померяй валеночки, нога-то у тебя за лето выросла, старые тебе малы». И какой-то дяденька, валяльщик, так называли его, дал в руки мне новые пахнущие керосином валенки: «Меряй, валенки у нас – первейшее дело, без них пропадешь и с печки не слезешь», – пробасил он. Валенки мне впору, но это только начало, он остался у нас и свалял несколько пар валенок. А я все глядел, как он это делал, и удивлялся, как же он вынимает колодки из готовых валенок. Ведь это сделать невозможно. Но он оказался добрым и веселым человеком, показал нам, как разбирается колодка и как по частям вынимается из самой середины готового валенка.
Он угадал. Зимой, действительно, без валенок здесь делать нечего. Снегу навалило столько, что у наших соседей Тумановых снегом занесло хлев вместе с крышей. Угадал он, и где мы больше всего зимой проводили время – на печи. Там все: и игры, и сказки, и спим мы с бабусей там же. И когда все уже спят, и фитиль лампы уже не только прикручен, но просто потушен, мы еще на печи шепчемся, она мне что-нибудь рассказывает. Так под этот рассказ я и засыпаю. Но зимние ночи долгие.
Вдруг среди ночных потемок жуткий волчий вой где-то под окном рядом с избой, и собачий переполох в поселке. А утром говорят: «Ночью волки у Тумановых разрыли соломенную крышу хлева и овец зарезали».
…Вслед за темными, глухими зимними ночами, наконец, пришли и заявили о себе первые признаки весны. Однажды в яркое солнечное утро я вышел из избы во двор. Капель буравила лежащие вокруг избы сугробы, наперебой орали воробьи, звенели синицы, солидно жужжали снегири – знакомый хор. Но вдобавок что-то было еще, чего не было раньше. Бабуся подошла ко мне и сказала: «Все, Коля, зиму пережили – куры занеслись». Вот что не сразу я заметил среди птичьих голосов – кудахтанья кур. Природа, а вместе с ней и куры выходили из зимнего оцепенения.
«Вот и хорошо, яйца есть, – продолжала бабуся, – завтра блинцы испеку, весне порадуемся. Корова в запуске, не доится, да и пост еще, но молоко будет, если вы мне поможете». С этими словами она позвала всех нас в избу и задала работу. Нужно перебрать конопляное семя, удалить из него комочки земли, сорняки, а затем промыть водой, слив воду вместе со пустым семенем, плавающим сверху, и мыть в нескольких водах, пока сливаемая вода не пойдет чистая. Затем отбросить семя на решето и сушить в вольной печке. Это наше задание.
А бабуся занялась своей работой: она сделала то же самое с просом. После обеда, когда все это просохло и было вынуто из печки, она сказала: «Возьмемся за блинцы, а то завтра за утро-то не успеть». И началось старинное, интересное для меня действо. Приволокли в сенцы тяжеленную деревянную ступу, принесли песты (пихтели, как иногда у нас говаривали). Видя мое любопытство, бабуся объяснила: «Сейчас из проса сначала сделаем пшено, а потом сам все увидишь. Тебе интересно, ты гость, а девчонки все это видели и знают». Бабуся позвала тетю Катю и вдвоем, в два песта, они начали толочь, шастать, как говорила бабуся, просо, подлаживаясь друг под друга, меняя руки и смахивая со лба волосы и пот.
– Вот обшастаем – будет из проса пшено, – отдыхая, говорила бабуся.
– Но ведь у нас же есть пшено, – заметил я.
– Э, маленький, пшено из проса всегда лучше, чем лежалое: то –гаронит, горчит, и пойдет на кашу, на драченки. Блинцы сделаем из живого зерна, из проса.
Легко сказать – сделаем. Обшастали, получили пшено вместе с просяной шелухой, промыли, слив, удалили шелуху, просушили, перебрали, отделив просяные необшастанные зерна из пшена. После обеда, когда все это было сделано, просушенное пшено вынули из печки. Бабуся, пересыпая пшено в руках, проговорила, обращаясь ко мне: «Ну, видишь – не пшено, а солнышко: горит и светится, залюбуешься им».
Я всегда удивлялся бабусиному восторгу результатами ее труда, будто видела это впервой. Она любовалась и гордилась сделанным, как будто созерцание своего труда и есть цель, к которой она стремилась.
Снова бабуся и тетя Катя взялись за песты. «Вот перетолчем пшено – будет пшенная мука», – объясняла мне бабуся. Муку просеяли ситом, а что не перетолклось, много раз возвращали в ступу, и когда, наконец, с пшеном было покончено, дошла очередь до нашей работы.
Семя высыпали в ступу. Мы по очереди пробовали его толочь, но даже пест могли поднять с трудом. Это дело взрослых. Они еще поработали, и из семени получился темный маслянистый комок. «Положи до завтра в блюдо, – устало проговорила бабуся. – Теперь можно и отдохнуть».
И был день, и был вечер…
Тр-тр-тр – сверчок, так умиротворенно циркавший и баюкавший вечером, верещал под ухом, как надоедливый будильник. Пытаясь от него отделаться, я перевернулся и увидел: вся изба залита веселым утренним светом, и от этого света, от удивительно вкусных запахов и тихой суеты бабуси возле печки сон моментально отлетел, и радостное ожидание чего-то необычного согнало меня с печи. «Ну, раньше всех вскочил, молодец! – обрадовалась бабуся. – Иди сюда, смотри, что тебе покажу. Она подвела меня к окну, расправила передо мной блинец: «Смотри, он сам желтый, как солнышко, и через него солнышко видать». Через огромный, желтый, закрывающий половину избяного окна блинец, действительно, просвечивало солнце. «Весна, Коля, пришла долгожданная, – радостно шептала бабуся, – сейчас молоко сделаем».
Она взяла блюдо с нашим толченым конопляным семенем, влила туда крутой кипяток. И на моих глазах совершилось чудо: не было в блюде темного маслянистого комка, а оно наполнилось белым-белым молоком, а поверху поплыли скорлупки семени. Бабуся процедила это молочко, смахнула оставшиеся скорлупки, поставила кружку с ним передо мной:
– Что, удивился? Иди, умывайся, а оно пока постынет. Потом садись да ешь. Таких блинцев да с таким молоком ты еще не едал. А их не жди, если все вскочат, я за этой оравой блинцы печь не угонюсь. А их нужно есть с пылу с жару, и хорошо, что ты рано встал.
– Но ведь ты встаешь еще раньше.
– Э, Коля, кто рано встает, тому бог подает, а я говорю еще так: поздно лег и рано встал, что не сделал, наверстал. И еще: поздно встал, да рано лег – не поможет даже бог.
Конечно, конопляное молоко не сравниться не только со сливками, но даже и с простым молоком, однако необычность вкуса, верность традиции – постом поститься, и просто отсутствие коровьего молока, делали это конопляное молоко обычным в эту пору в крестьянских дворах. И надо отдать должное умению наших предков вынужденное превращать в праздничное, в праздник весны и ожидание новой жизни.
А культ блинов и блинцев, наверное, восходит к далеким временам язычества и культу поклонения наших пращуров богу-солнцу. Это понимаешь только теперь.
Мы, дети, соскучившиеся по теплу и свету, теперь гонялись по двору и лесу. И однажды, когда уже не первые проталины, а и поля стали черными, бабушка снова сделала для нас праздник. Утром нас разбудил ее голос: «Вставайте! Обещала вам встретить жаворонков, вот и дождались». С радостью легко вставать, и мы все обступили стол, на котором на чистом льняном полотенце рядами лежали «жаворонки», аппетитные, румяные, пахучие. «Ну, умываться, в чистое одеваться и на улицу!» – торопила бабуся. Выбежали на улицу. Изо всех дворов с такими же «жаворонками» высыпали ребятишки. «Радости полный короб». А с высокого неба неслись трели, такие знакомые и такие долгожданные. Весна! Жаворонки! А на взгорках удивительные, нежные звезды подснежников – голубых пролесок.
САРАТОВ
Родители к этому времени устроились работать в Саратове и нас, детей, забрали к себе. Жили мы около табачной фабрики, над которой постоянно висело рыжее облако, выдыхаемой ею табачной пыли. Дом, в котором мы жили, казавшийся мне тогда таким большим, а на деле неказистый и замурзанный, я разыскал почти через сорок лет. И хотя прошло много времени, и жили мы в Саратове мало, нашу семью еще помнили. А меня даже приняли за моего отца.
Этот город запомнился не только постоянным запахом табачной пыли, но и трамваем, ходившим мимо нашего дома на завод комбайнов по одной колее – маятником, туда-сюда, со страшным скрежетом и пламенем вольтовой дуги над крышей; запомнился Саратов Волгой, арбузами, цирком и рассказами об убийствах и голоде в городе.
ПЕНЗА
Этот голод заставил родителей прибиться к родным, более сытым местам. Мы переехали в Пензу. Пенза в то время была не областным, а провинциальным городом, входившим в состав Средневолжского края. Вообще Пенза тех лет мало напоминала теперешний город. Велозавод был единственным крупным предприятием. В говоре горожан обычными были слова: поехать в город; поехать на завод. И это было понятно: велозавод с его Рабочим городком и город разделял широкий пустырь. На месте заводов ВЭМ и часового была заводская свалка. Иногда на ней находили продукцию велозавода. Одна такая находка выбила глаз и оторвала кисть мальчишке, нашедшему ее.
Там, где теперь Олимпийский парк (раньше он назывался Комсомольским), начинались тянувшиеся до самого горизонта поля, засеянные рожью и пшеницей. На месте завода Химмаш была деревня Рогатка, и до нее тянулась от Рабочего городка пыльная проселочная дорога. Компрессорный завод потом был построен на задах поселка Черкассы.
Между городом и селом Кривозерье, вошедшим теперь в черту города, были болота, и в них охотились на разную дичь, гнездившуюся там. А по дороге до такого же села Терновки была такая непролазная грязь в раздополье, что ни на машинах, ни на лошадях проехать было невозможно.
Украшением города была Сура, по которой с верховьев сплавляли лес. Река была такой чистой, что воду для чая предпочитали брать из нее.
И, наконец, замечательным местом на Суре было раздолье Суходола, с многочисленными заводями, прозрачной водой, обилием разнообразной рыбы и коврами белых лилий на воде. И тянулось это раздолье по всей Старой Суре от фабрики «Маяк Революции» до поселка Ахуны и дальше. Все протоки Суходола имели хорошие глубины, а по главным даже сплавляли лес, на них устанавливали бревнотаски и запани для расформирования плотов с лесом.
Мост в Ахунах был с высокой деревянной фермой. С верхушки этой фермы мальчишки прыгали «тычьмя башкой» в воду сурской протоки. Мощеных булыжных дорог, не говоря уж об асфальтовых, город имел немного, только несколько главных. Тротуары, проложенные в некоторых местах, были деревянными, точь-в-точь, как у Лескова, писавшего о Пензе. У него описаны пензенские тротуары, проложенные над сточными канавами. Они, эти тротуары, были такими ветхими, что горожане по ним не ходили. Англичанин, приехавший в Пензу (по Лескову), не знал этого, пошел по тротуару и провалился, доска его прихлопнула сверху. И… «таким образом с англичанином было покончено окончательно». Читая это у Лескова, я дивился точности описания и давился от смеха, понимая, что мне знакомо это злополучное место.
Водопровод в старом городе был не во всех домах, на некоторых перекрестках стояли будки (фонталки – по выражению пензяков), в которые были проведены трубы от артезианских скважин верхней части города. В этих будках отпускали воду по 1 коп. за ведро. Настоящий водопровод был только в Рабочем городке велозавода. Там же функционировала и канализация. В старом городе ее почти не было.
И описанные у Салтыкова-Щедрина в очерке «За рубежом» пензенские ассенизационные обозы – лошадь, везущая бочку, полную «товаром», на которой восседал жующий калач возница, («говночист», - по пензенской народной терминологии). И особым шиком у них считалось ехать на бочке, в одной руке бутылка водки, в другой круг колбасы, пить «из горла» и закусывать. Тянулись медленно, громыхая по булыжной мостовой, эти обозы, за ними тянулся «благоухающий» след их трудов через весь город до места на Шуисте, возле леса, которое называлось «говенными ямами». .
Салтыков-Щедрин – бывший Председателем Казенной палаты Пензы (ему хорошо был знаком её быт), писал в этом же очерке, что некоторые для нужд своей ассенизации держали свинью. И под видом «тамбовского хлебного окорока» продавали её мясо на рынках Пензы и даже Петербурга. Всё это было нашей городской действительностью
Никакого городского транспорта не было. Пролетка, «фордик» начальства, карета скорой помощи, заводской грузовик, пожарная машина и обоз ломовиков – вот весь редкий транспорт на улицах города. Горожане большей частью ходили пешком. Незадолго до войны появились три или четыре автобуса. Это было для Пензы грандиозным событием. Ходили они от заводоуправления велозавода до места, где теперь стоит гостиница «Россия». Долгой и трудной была история обретения Пензой цивилизованного общественного транспорта. Не в том дело, что его было очень мало. Перед военными годами были изобретены, а во время войны во всю применялись – сущее наказание для шофера – газогенераторы и газогенераторные грузовики и автобусы. Применялись они не от хорошей жизни – не хватало бензина. Вот и добывали генераторный газ из чурок. Были они не всегда сухими. Мощность двигателя определяется теплотворной способностью горючего. А она у газогенераторного газа и так-то невелика (много ниже бензина), а у сырых чурок и вовсе мала. Это время было настоящим мученьем для шоферов. Газогенераторный автобус не всегда мог подняться в гору по улице Московской без остановки – останавливайся и раскочегаривай газогенератор.
В середине 30-х годов было введено в эксплуатацию «оригинальнейшее» чисто пензенское изобретение – «пассажирский мотовоз». Великое везение, случай или божий промысел дал мне в руки удивительный материал об этом. В середине 30-х годов во всех городах еще сохранился и даже расцвел и окреп культ газетного фельетона. Каждая уважающая себя газета обязательно имела уголок фельетона по субботам или пятницам, а то и по всем дням выхода из печати. В хлесткости слога фельетонисты соревновались друг перед дружкой. Фельетонов было так много, что казалось, все только и делали, что поспали, поели, пописали, почитали, попечатали, получили и т.д. Рукописи фельетонов носились, реяли в воздухе. Даже у нас, в нашем классе, учился племянник одного такого фельетониста.
Но все уходит. Я уже не думал, не гадал, что мне в руки попадет когда-то одна такая рукопись фельетона на темы нашего города.
Куда обычно выбрасывают ненужный хлам? Правильно угадали. Там, под дровами, я ее и обнаружил. Потрепанную тетрадь, а в ней - рукопись фельетона без титульного листа, без автора и заголовка, с эпиграфом, но без конца …
РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В САРАЕ
«Трамвай построить – это не ешака купить».
И. Ильф и Е. Петров. «Двенадцать стульев».
«…дорогой читатель, неужели ты не понял, в какое замечательное время мы с тобой живем, какие удивительные, эпохальные события для Пензы совершаются?
У, ненавистные акулы пера и пираты газетного моря. Вам бы только скрипеть перьями да строчить о том, что на Московской мусор бросают мимо урн, а у пивного ларька возле Эрмитажа таковой даже не имеется.
Разуйте глаза и выгляньте на улицу. И ваше сердце вздрогнет, и «рука потянется к перу, перо к бумаге, мгновение»… Но поздно. Все уже свершилось. Вы, борзописцы, опоздали, проспали…такое замечательное событие.
С наступлением 30-х годов все громче и громче стали говорить, что в наше революционное время обязательно в воздухе Пензы должно что-то витать.
Беспокойные глаза и души наших умельцев лихорадочно стали искать, что же такое там должно витать? Но тщетно трудились и в затруднении никак ничего не находили.
«Пензенская пыль и грязь, – вещал один из мудрецов, – суть два агрегатных состояния одного и того же вещества».
И именно это вещество и подвигало умельцев и к действию, и мешало разглядеть, что это там может витать.
Наше бодрое, стремительное время давно уже решило, что нужно для успеха. Идейный вождь и воодушевленная идеями масса – вот залог успеха.
И свершилось. Стройными рядами под бодрые разговоры и песни сорганизовались и отправились на поиск места, откуда видно лучше, где что витает, на окраину Пензы.
Взобрались повыше на земляной вал кровли велозаводского овощехранилища и сели рядками в мыслительных позах.
Из проходных велозавода валом валил по улице народ. Возмущению трудящихся не было предела. Многие из них заорали, что это безобразие: на кровле овощехранилища, да еще сразу все, да еще принародно. Так не делают. Нужно с вала немного спуститься и делать это по очереди, а остальные пусть «притыривают», прикрывают.
Умельцы, как могли, объясняли, что они все в мыслях и внимании, а не в туалете. В ответ ругань и ор. Трудящиеся массы это не понимали.
Что значит, «все в мыслях и внимании»? Могли бы почиститься от этого где-то в уголке, в сторонке, а так принародно, только честной народ возмущают.
Это возмущение грозило гибелью мыслительным процессам в головах наших умельцев. И, наверное, закончилось бы ничем.
Но один из них, наиболее уравновешенный и невозмутимый созерцатель непрестанного труда мотовоза, возившего по узкоколейке капусту из арбековского совхоза в овощехранилище, указал руководителю умельцев и всем товарищам на это замечательное явление.[61]
 Утомленные
непрерывным митингом с блюстителями морали и общественного порядка, они
обрадовались перемене темы.
Утомленные
непрерывным митингом с блюстителями морали и общественного порядка, они
обрадовались перемене темы.
И – о, великая сила коллективного разума! – всех внезапно осенило.
И воспаленное, безудержное воображение, подогретое очищающим огнем революции, нарисовало картину: не подрагивающие мерно кочаны капусты должны ехать на платформах, а так же мерно подрагивающее множество голов пензяков должно мчаться в вагончиках, с чувством глубокого удовлетворения и счастья от преодоления просторов Пензы.
Нестройный многоголосый хор крикнул: «Эврика», и теряя галоши и даже сапоги в бездонных хлябях пензенского чернозема, с превеликой жаждой немедленно донести эту необыкновенную весть до всех, они помчались по улицам, тосковавшим о цивилизованных средствах транспорта, сообщения, связи, сплачивания и общения индивидов.
Мотовоз «построить - это не ешака купить». Но исторгнутые из недр их душ всесокрушающие «лучи» энтузиазма испепелили и разрушили все препоны и препятствия, и всё отступило перед этим, по сию пору непознанным явлением.
Эти люди умеют и воздух, если в нем хоть что-то витает, превращать во вполне материальные вещи.
В сказочно короткие сроки, они с песнями и с бодрыми криками, сотворили полотно узкоколейки от велозаводского железнодорожного переезда до Сенной площади позади Драмтеатра, построили три вагона и водрузили вдоль полотна чудесные, необыкновенные столбы, обозначающие остановки мотовоза. Замечательные столбы, сделанные на века, словно бивни мамонтов.
Пусть рухнет все, а они останутся, эти массивные, чугунные, добротные столбы – 2,5 м высотой, с рельефами и художествами.
Приехали наши городские руководители, а с ними и надуватели мыльных пузырей и собственных щек, для солидности.
Собрали народ, сказали речи о том, что мотовоз – не роскошь, а средство передвижения самых передовых революционных трудящихся масс. Затем перерезали ленточку, заиграл оркестр, посадили в вагоны почетных пассажиров.
Мотовоз произвел треск и грохот, в этом грохоте внутри его что-то пропищало, изображая сигнал, и красно-сине-желтые вагончики отправились попытаться добыть себе славу и бессмертие.
Слава первопроходцам! Это они глядели радостные из окон вагончиков. Это они всегда с горящими от счастья глазами делают и первые шаги человечества, и новые обычаи, и новые традиции!
Потом придут
другие. Оловянные глаза их не будут гореть негасимым огнем. Эти не ведают
творческой лихорадки, мучающей «неумных и  неуёмных энтузиастов». Их славу они превратят
в рутину и создадут свои традиции…
неуёмных энтузиастов». Их славу они превратят
в рутину и создадут свои традиции…
Мотовоз тронулся. Вагончики, не проехав и половины пути, сошли с рельсов. Традиция родилась. Рутина победила.
И несется теперь мотовоз с треском и грохотом, традиционно сходя с рельсов, традиционно усилиями пассажиров, под традиционные крики: «Раз, два, взяли!!!» – традиционно, с превеликой натугой ставится на рельсы. И продолжает нестись под радостные крики вездесущих ребятишек и остервенелый лай своры уличных собак, возмущенных отвратительным видом и поведением этого, не весть откуда взявшегося чудовища»…
На этом рукопись безвестного автора обрывается, окончание её, подмоченное и изъеденное мышами, плохо читается.
Но все же она дает сведения о факте строительства пассажирского мотовоза и некоторое понятие об атмосфере того времени в обществе.
Можно только гадать, почему эта рукопись не была опубликована. Возможно, автору указали, что кое-что будет грубым, оскорбительным для народа и начальства. Все может быть.
И далее… «не принятые рукописи не возвращаются. Но рукописи-то не горят». Вот и оказалась она у меня в руках.
Героями этой эпопеи были умельцы. Ну, а что же стало с ними? Где они? Детище их трудов дружно все назвали карикатурой, гримасой пензенской действительности Понурясь, ушли они, неприкаянные, наверное, с обидой в сердце, искать новые приключения на свои головы. …
С большими трудностями я разыскал фотографию мотовоза. И не зря. Фотограф ухватил момент и превратил фото в снимок символический: на переднем плане мотовоз и петля узкоколейки, а на заднем плане,- старик быстро едущий на телеге. Мотовоз стоит на последней остановке. Кто победит, кто будет жить дальше?
Пассажирский мотовоз был пущен в 1935 году – просуществовал до 37 года. И кроме больших убытков Горкомхозу ничего не принес, а пассажирам его одни огорчения. Старик на савраске победил!
Через много, много лет после пензенской мотовозной эпопеи, совершенно случайно, возле старого железнодорожного вокзала я вдруг увидел чугунный столб. «Здравствуй, старый приятель!» И я погладил его шершавую шкуру.
Давно окончилась война, давно Пенза обзавелась «цивилизованным городским транспортом». Давно не стало нужды в этом «карикатурном средстве передвижения» - мотовозе, давно были сняты рельсы узкоколейки и срыта ее насыпь. А столб еще бодро стоял, как памятник трудам наивных, безвестных энтузиастов и босоногому детству пензяков моего поколения.
В 1995 году, путешествуя на велосипеде в австрийских Альпах, я увидел узкоколейку и на ней больших младших братьев пензенского мотовоза. Я проехал на этом поезде по ущельям, долинам рек и туннелям в этих горах от городка Мариензелли до Санкт-Пёльтена. Другого транспорта там сделать невозможно, другой там быть не может. Вот где возродилась идея и дело наших умельцев!
Я повторюсь, но скажу, что самым большим достоинством Пензы в то время была прекрасная природа, в которую она вросла. В черте теперешнего города водились бобры, по улицам часто бегали белки. А в Летнем парке и рядом с ним в лесу собирали белые грибы. В озерах и протоках Суры встречался, - теперь уже величайшая редкость российской природы, любитель чистейшей незамутненной воды, – водяной орех – рогатик. Так называли его пензенские рыбаки. Правильное его название – рогульник или чилим. А в Суре стерлядь можно было поймать чаще, чем любую другую рыбу.
Но ничего не дает природа бесплатно. И Пенза за это платила непомерно большую, жесточайшую дань. Окрестные болота, озера, тихие заводи и протоки дарили не только благодать, но и дышали смертью. Все они были заражены лихорадкой (малярией). Вспышки малярии в городе и его окрестностях принимали размах настоящей эпидемии. В некоторые годы малярия укладывала в постель и могилы целые семьи. Не миновала этой участи и наша семья. Вскоре после приезда в Пензу заболел ею я, а потом и отец. Папа заболел тяжелой формой тропической малярии, но его богатырский организм её переборол, и он вылечился. А у меня она перешла в хроническую форму, и я болел ею более шести лет.
Обострение болезни совпадало с весной. И много раз так случалось, что я мог уйти в школу на своих ногах, а возвратиться домой только с помощью своих добрых друзей. Самостоятельно, без их помощи, я идти не мог. Два или три раза в эти годы, в мартовские весенние дни, я находился в таком жалком состоянии, что только длительное теплое растирание всего тела – искусственное поддержание жизни – спасали меня. Жизнь в эти моменты во мне едва-едва теплилась, и я уже еле дышал и застывал, совершенно бессильный подать даже голос.
Бюллетеней для ухода за хрониками-детьми в то время не давали, в больницу также не клали, иначе там просто не хватило бы мест. И то, что я остался жив – заслуга наших соседей по общей квартире. Вот она прелесть коммуналок! После каждого такого обострения болезни, я учился ходить по стеночке заново.
И так в то время было со многими жителями нашего города. Достаточно сказать, что в нашем классе здоровых от этой болезни ребятишек можно было пересчитать по пальцам одной руки. И только перенесшие ужас изматывающих тело и душу приступов этой коварной болезни могут оценить, без всякой натяжки, подвиг советских медиков и властей, ополчившихся против этого недуга и победивших его. Вот почему Пенза теперь избавлена от этого несчастья. Вечная им благодарность за это!
ШАФТЕЛЬ
Прости, читатель, за саратовскую и пензенскую перебивку.
Моё житие в Вёхове закончилось. Приехала мама, и нас на лошади повез в Щепотьево дядя Сима. В этот раз ехали другой дорогой. Осталось позади лесное затишье Вёхова, проехали по речной долине Большого Чембара, обогнули по полугорью гору Седло. С ее высоты в утренней дымке обозначились далекие-далекие виды деревень и сел: Болкашина, Ростовки, Верхних и Нижних Полян. И во всех направлениях и близкого и далекого пространства открылись приметы сел тогдашней поры – ветряки, машущие крыльями. Если бы знать тогда, что это – прощальные взмахи великанов! Никогда больше не был я в этих местах...
Вскоре исчезнет поселок Вёхово и исчезнут потом из пейзажа и ветряки. А наше путешествие во времени и пространстве проходит по местам, с которыми связаны наши предки со стороны моей мамы Матвеевой Ольги Семеновны.
Осталась позади околица села Нижние Поляны. Мы поднялись на взгорок, и обозначились вдалеке избы деревеньки Шафтель, зажатой слева лесом Илень, а справа глубоченным оврагом, с безымянной тогда, для меня, речушкой. Очень примечательный овраг! Такие в нашей местности чрезвычайно редки. Скорее, это даже не овраг, а громадный каньон малюсенького ручейка – речки Шафтель. И не верится, что она могла его создать своим неспешным течением.
Возможно, происхождение его такое же, как и Гранд Каньона реки Колорадо, т.е. или путем разлома поверхности земли, или путем медленного подъема окружающей местности и ее русла в течение многих миллионов лет. И пропилила она осадочные породы до самых древних меловых пластов, открывая в них останки древнейших обитателей этих мест. Когда на лето наша семья приезжала в Шафтель, я сам, еще мальчишкой, собирал в них, в этих тонких пластах странного крупного песка – зерен размером с пшено – в норах «косой дороги» целые коробки зубов ископаемых рыб. И видел огромные окаменевшие кости, которые река вымывала в половодье. Возможно, палеонтологи каньоном еще заинтересуются и придут в эти места.
Здесь в этих местах и зарыта пуповина рода, из которого происходит моя бабушка – мать моей матери – рода Мельниковых.
Работая над этими записками и пытаясь вникнуть в топонимический смысл названий – «устной летописи земли», я обратился к исторической литературе. Многие пытались объяснить смысл топонимов. Наиболее убедительные объяснения названиям этих мест дал, пожалуй, М.С. Полубояров, известный краевед.
«Шафтель ( Шавтель), правый приток Большого Чембара… Упоминается в 1700 г. как Шафтелей, Шафтеля. От искаженного мокша-мордовского шувта – «дерево», эль – «лоно, край, подол, колени». Место коленопреклонения перед священным деревом?»[62]
Справедливость такого предположения может объяснить, почему заболоченное, пустынное урочище, в котором находится исток Шафтеля, носило название у жителей этой деревни «Хохлов дуб». Дуба, там в настоящее время, нет и в помине. Народная легенда, однако, сохранила память об этом «священном дубе», которому отдавали «поклон с хохлом, челобитье с шишкой» (по В.И. Далю). И восходит это, наверное, к тем далеким временам, когда аборигены этих мест мордва ещё не приняли христианства.[63] Вот что по этому поводу написано в «Золотой летописи Пензенского края» (стр. 8, 16): Мордвины «…отправляются на поля к заветным деревьям, …устанавливают около деревьев бочки с общей брагой» и устраивают так называемые маляны, т.е. своеобразный праздник для всего круга людей и умилостивления божеств (маляны – от мордовского слова делиться, а не молиться. – Н.В.).
«Мордва единогласно утверждали, что идолoпоклонниками они никогда не были, а главную основу их языческих верований составляло поклонение силам природы и небесным светилам… Божества умиротворялись малянами, жертвоприношениями у источника или леса». Они долго ещё – будучи христианами – в душе оставались язычниками и били «поклон с хохлом» дубу как священному дереву. И русские называли таких, видимо, «хохлами». Надо заметить, что в выражении «Хохлов дуб» первым стоит не прилагательное, а существительное, обозначающее связь этого дуба с «хохлами», т.е. с поклоняющимися ему людям. Названье урочищу дали, конечно же, христиане, вложив в него, в отношении «хохлов», долю сарказма и иронии. Со временем иронический смысл был утерян, и существительное множественного числа «Хохлов»… стало восприниматься как прилагательное в единственном числе.
Такие грамматические разборы иногда приходиться делать, распутывая клубочки удивительных загадок.
И М.С. Полубоярову в предполагаемом названии ручья Шафтель теперь, после моих догадок, знак вопроса можно, наверное, снять.
А речка Шафтель и ее овраг – каньон не только дали название деревеньке, но и обустроили ее, снабдив богатым набором строительных материалов. Камень-дикарь, плитняк, а по-научному песчаник был в избытке и выламывался жителями в вырытых норах берегов оврага. Глина имелась в овраге двух сортов: обычная и голубая – «горшешная». Она добывалась «горшешниками» из соседнего Языкова. Песок и мел были в овраге также в изобилии.
И стала эта деревенька строить все хозяйственные постройки из дикаря и глины, замешанной, для связки, с соломенной сечкой и конопляной костригой – остатками сухих стеблей конопли, после того как обомнут и обтреплют в мялке и освободят ее одревесневшие стебли от волокна.
Глины требовалось много. И чтобы подготовить ее, сначала выкашивали площадку, настилали круг из глины, покрывали его сечкой и костригой, затем поливали водой. Потом гоняли лошадь по этому кругу, разминая комья глины и смешивая ее. Вот вам конная глиномешалка, и вот вам связка, для камня-дикаря при кладке стен.
Но не только хлевы, погребицы и сараи строились из камня. К жилому помещению часто пристраивалась мазанка, для хозяйственных нужд и спасения от жары и духоты в летнее время.
БАБУСИНЫ УНИВЕРСИТЕТЫ
Здесь мы мысленно прервем наше путешествие в Щепотьево через деревеньки Шафтель и Подсот. Настало время поговорить о наших шафтельских корнях, с которыми крепчайшей нитью мы связаны через бабушку Татьяну Егоровну Матвееву. И, естественно, рассказ должен начаться с неё и о ней.
Для меня рассказ о жизни моей бабушки (бабуси) Татьяны Егоровны Матвеевой, пожалуй, один из самых трудных. Я знаю о её жизни очень много, много слышал её рассказов, рассказов и легенд моей матери и моих родственников, был свидетелем и её трудов, и её горя. Она была не только носителем стародавних преданий, но и вдобавок талантливой рассказчицей, и, как я потом постараюсь показать, была не лишена поэтического дара.
И трудность эта состоит в моем сомнении: сумею ли я донести, не исказив выбором изложения, непростой этот образ обычной, и в то же время не укладывающейся в рамки обыденности женщины, пришедшей из глубин старого крестьянского быта?
А сейчас, перебирая в памяти детские впечатления, невольно обращаешься к тем мгновениям, когда бабушка, или веселая, или грустная, перебивая речь тихим напевом песни, обнимала кого-нибудь из нас, своих внучат, своими загрубевшими, в мозолях и трещинах ладонями и вела рассказ о пережитом. А мы, притихнув, слушали её необыкновенные, интересные рассказы об истории и легендах родного края.
Рассказы о тех давних временах, когда вокруг бродили разбойные ватаги; о том, почему место в овраге называется «Хохлов дуб», хотя там никакого дуба нет; почему дорога в Нижние Поляны называется «Край леса», хотя никакого леса там нет и в помине; о поле на месте болота, в котором барин, спасаясь бегством от разбойников, утонул вместе с тройкой; о тайных пещерах в оврагах леса Илень; о ключе Гремучем в тех оврагах.
Писатель-лермонтовед С.А. Андреев-Кривич в книге «Тарханская пора» много страниц посвятил этим удивительным местам: лесу Илень, роднику Гремучему, потайным пещерам лесных оврагов, но при этом не дал ссылок на первоначальные источники сведений.
Вот они, три основных источника: моя бабушка Татьяна Егоровна – хранительница местных легенд, указавшая на эти легендарные места, моя мама Ольга Семеновна Вырыпаева, передавшая эти сведения писателю, мой отец Петр Андреевич Вырыпаев, высказавший впервые в лермонтоведении мысль о привязке действия лермонтовского романа «Вадим» к этим местам.
Легенды бабушки говорили о большом промежутке времени и привязывали эти места к лихим разбойным делам в нашем крае задолго до Пугачева и много лет спустя после него.
Мама справедливо указывала на некорректное поведение Андреева-Кривича, не посчитавшего нужным сослаться на первоначальные источники сведений, заимствуя без кавычек, просто текстуально, без какой-либо переработки, отрывки из трудов моего отца. Именно на них, на труды Петра Андреевича, ранее книги Андреева-Кривича, ссылался известный лермонтовед Ираклий Луарсабович Андроников. Так поступают порядочные люди.
…Постоянно в рассказы бабушки вплетались воспоминания о детстве, девичестве и об истории ее семьи.
Татьяна Егоровна была младшей дочерью в семье моего прадеда Егора Мельникова. Кроме неё, в семье была старшая сестра Анна, брат Афанасий и приемный сын семьи Сергей. Брат Афанасий простудился на весенней пахоте, заболел и умер. Сергей погиб на германской войне. Этот сероглазый, плечистый красавец, как говорила бабуся, нашел вечное упокоение в бездонных Мазурских болотах Восточной Пруссии. Бабушка Анна дожила до преклонного возраста и была на нашей зрелой памяти.
По рассказам бабуси, отец, дед Егор, выделял её и был с ней ласков и внимателен, и она многое от него унаследовала, в том числе привычку петь в радости и печали. Рассказы обо всем этом она потом напоминала нам много раз по мере нашего взросления и освоения нами понятия о жизни.
Теперь я понимаю, что это она делала, может быть, сознательно: каждый возраст, и её и наш, требовал нового осмысления прошлого (прочитанный в детстве роман во взрослом возрасте и читается, и понимается совсем по-другому).
В детском возрасте она жила, как жили все крестьянские дети, постигая многочисленные нехитрые премудрости крестьянского быта и труда. Однако по мере взросления ей захотелось быть хотя бы грамотной, но в ту пору не считали, что девочкам нужно учиться, и долго с её желанием просто не считались. И она рассказывала, как насилу уговорила отца отдать их с сестрой Анной в обучение – чтению псалтыря – двум монашкам. Анна занималась без охоты, а у бабуси была не просто охота, а прямо страсть, как она потом много раз говорила.
Платой монашкам за освоение этой «науки» был пуд пшена. Успехи сестер были в этой учебе разные, и бабуся потом посмеивалась над сестрой: «Анна, пропал зазря твой пуд пшена».
И это – все бабусины «университеты». Светской азбуке, чтению светских книг, светскому письму она обучилась самостоятельно, как тогда говорили, самоучкой, и не удивлялись при этом способностям людей, сделавшим такое возможным «без отрыва от производства». Читала она потом бегло, много и охотно. С письмом было похуже.
Знакомство с монашками добавило ей религиозности, и, желая отметить чем-то способную девушку, монашки предложили вместе сходить к Святым местам в Киев. Они отправились в свое паломничество пешком, идя от монастыря к монастырю, в них находя кров и пропитание. Это пешее путешествие продолжалось три месяца. Истоптав несколько пар лаптей, она вернулась совершенно другим человеком. Ушла верующей в святость церкви и церковно-монастырской жизни – вернулась на всю жизнь в убеждении, что в церкви больше лжи и обмана, чем святости. Таков вывод, таков результат её посещения «святых мест» и поклонения «мощам праведников».
Бабусе исполнилось более 18 лет. Трудолюбивая, веселая, общительная девчонка была на примете у парней и свах, но все свахи получали у неё от ворот поворот. Когда же выяснилось, что причиной тому голодранец Сёмка из соседнего Подсота, то у неё возник конфликт с отцом. Он ни в какую не хотел даже говорить об этом женихе: «Да и что от него, от Семки, проку – только мастак на балалайке играть, зажитку нет, земли тоже, вечные батраки», – вот как понимал жизнь Егор Мельников – не богач, но и не бедняк. «И речей не веди, и слушать не буду, а будешь упрямиться, я тя обломаю. Я добра тебе хочу, а ты у нас по молодости лет без ума и понятия», – увещевал отец упрямицу.
Село Подсот в трех верстах от Шафтели. На пути к Подсоту огромный шафтельский глубоченный овраг, поля, лес под названием Сот, к которому и прислонилось это село. И там живет Семка. И однажды, когда отца не было дома, собрала бабуся свои нехитрые пожитки и пошла в Подсот искать свою судьбу, любовь и счастье. Когда же увидели и сообразили, что это значит, кинулись за отцом. Он запряг лошадь, перемахнул единым духом через овраг и, стоя, нахлестывая лошадь, едва успел догнать беглянку у самого края леса. Разгоряченный погоней, заорал: «Танька, не дури, не клади позор на мою голову! – И затем, остывая и успокаиваясь: – Коли так, от судьбы и бога не уйдешь. Садись, дочка, со мной рядом. Домой поехали, а Семка пусть засылает сватов».
Так родилась семья Семена Андреевича и Татьяны Егоровны Матвеевых, давшая жизнь моей матери, моей тёте Кате, моему дяде Лёле (так звали его в нашей родне). Обвенчались в тарханской церкви 18 февраля 1905 г. (ГАПО, ф. 182, оп. 7, д. 337, л. 239 об.). Свадьба, как все деревенские, не хуже и не лучше, но все же были на этой свадьбе или завистники, или недоброжелатели. И долго ещё бабуся помнила злую частушку, пропетую кем-то там же на свадьбе:
Чище почище,
Саратовски нищи:
По полю шатаются –
Сумочки болтаются,
Кусочки летят –
Собирают и едят.
В Петровки 1906 года, в самое жнитво и жару, появилась на свет моя мать (ГАПО, ф. 182, оп. 7, д. 345, л. 76 об.). Дед Семен к этому времени был призван, послан служить на Дальний Восток. Где ещё дымились и тлели головешки японской войны.
НАШИ ШАФТЕЛЬСКИЕ ПРАЩУРЫ
Легенды и документальный рассказ
о роде Мельниковых
Моя бабушка Татьяна Егоровна вышла из рода Мельниковых. Замечательные черты её характера подвигают на внимательное отношение к корням её, а следовательно, и к веточке корней наших. Мои разыскания по этой линии нашего родословия велись уже в других условиях поиска. Прошло ощущение новизны этой работы. Я уже был умудрен опытом находок и ошибок, стал почти чопорным англичанином, цедящим сквозь зубы: «Высказанное вслух удивление – признак дурного тона». И поскольку я трепетно относился к памяти бабушки, то даже пожалел, что начал поиски в архиве не с неё. Свежесть впечатлений поиска уже утрачена, так считал я, поиск оброс обедняющей его рутиной, а моя бабушка Таня этого никак не заслужила. Но напрасно я опасался этого. Нас на этом пути ожидали находки, достойные ее памяти.
В легендах семьи о бабушке и её отце Егоре Матвеевиче упоминалось, что приписан он был к государевой экономии, и на этом основании считали предков экономическими крестьянами. Так, например, постоянно повторяла моя мама Ольга Семеновна. Я обратился к документам. В них есть сведения об экономических крестьянах, но нет в них не только следов наших предков, а даже и деревня Шафтель не упомянута среди сел с экономическими крестьянами.
Опытный архивист Тамара Борисовна Яковлева в случайной беседе указала, что я не там ищу, и надо внимательней мне разобраться в этом. Просмотрел свои записи, и убедился: деревня Шафтель упоминалась в старинном документе, который уже был в моих руках: «Ведомости по 3-ей ревизии Чембарского уезда (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69, документ 1762 г.). Снова пролистал его и на листах 7 и 8 увидел запись о том, что в деревне Шафтель есть крепостные нескольких мелких помещиков, и, кроме них, 11 душ однодворцев. И никаких экономических крестьян. Как же так? Почему их там нет? Пришлось изучать исторические документы и выяснять, кто такие экономические крестьяне, кто такие однодворцы, и случайно они в Шафтели оказались, или нет. И выяснилось, в который раз, что сведения устных легенд не точны, а документальная история предков значительно интересней преданий.
Кто же такие экономические крестьяне? Вот что сообщают об этом исторические документы. С тем, чтобы ослабить экономическое, а значит и политическое влияние церковников на светскую власть, постепенно монастыри, церкви и иерархи церкви были лишены церковного и монастырского землевладения и владения крепостными крестьянами. Началось это ещё при Иване Грозном, усилилось при Петре I, а окончательно решилось указом 1764 г., по которому все церковные, монастырские вотчины были переданы государству. Крепостные крестьяне из них были взяты в ведение казны и стали управляться коллегией экономии, отсюда название «экономические крестьяне».
Бывшие крестьяне монастырских и церковных вотчин сохранили крепостное состояние и были не свободными, а крепостными казны, без особых привилегий, по сравнению с «владельческими», крепостными крестьянами.
В семейных преданиях нет упоминаний о том, что нашими предками владели монастыри и церкви. Значит, не могли они быть «экономическими крестьянами».
А однодворцы, кто это такие? Из многочисленных источников наиболее подробно об этом написано в статье «Четвертное землевладение» энциклопедии Брокгауза и Ефрона (т. 38, стр. 726):
«…Разряд однодворцев образовался у служилых людей, детей боярских и, преимущественно, низших разрядов – казаков, стрельцов, рейтаров, драгун, солдат, копейщиков, пушкарей, затинщиков, воротников и засечных сторожей, селившихся в XVI и XVII вв. на восточной и южной границах Московского государства, для защиты его от ногайских и крымских татар. Служилые люди низших разрядов в Московском государстве получали денежное жалование и корм натурой.
…Но так как доставлять продовольствие натурой для значительного войска, оберегавшего юго-восточную границу, было затруднительно, …правительство пришло к мысли давать землю для содержания не только высших, но и низших служилых людей, назначаемых для охраны границы, и отводить эти земли как раз вблизи неё».
Вот так появилась ниточка, потянув за которую удалось распутать весь клубок загадок. И все родство бабушки Тани – нашей бабуси – выстроилось с простотой и ясностью.
Названные мною ранее «Ведомости по 3-й ревизии Чембарского уезда» указали на происхождение её рода из однодворцев Воронежской губернии Верхнеломовского уезда.[64] И теперь после того как клубочек загадок распутан, мы с полным основанием можем сказать, что наша бабушка Таня вышла из рода Мельниковых, служилых людей на окраинных, пограничных с «Диким полем» землях государства Московского бывших, поэтому и воинами и землепашцами – свободными людьми.
Свобода! Свободное общество – обоюдоостро, и жить в нем не каждому по плечу.
Свободных людей объединяет либо общая опасность, либо общая цель, либо общий интерес, или начальственный окрик, – но это уже не свобода.
Свободное общество подобно бочонку. Общая опасность, общая цель, общие интересы – обручи на нем. Исчезли они, или что другое объединяющее – слетят обручи и рассыпается клепка. Наступает дисперсия свободного общества, подобно дисперсии белого света – все цвета радуги.
И свободное общество получает также все оттенки, все разновидности своего бытия: святых людей – работников, надежно оседающих на этой земле, и казаков – искателей новых земель.
Воля дает так называемых «сходцев», первопоселенцев то одной, то другой новостроящейся крепости, ищущих в них возможных привилегий. Даёт и вольницу, не верящую ни в бога, ни в черта: пьянь, лентяев и людей ни на что не годных, бродяг перекати-поле.
Нам, потомкам, остается лишь надеяться и верить, что наших предков миновала чаша сия: не прельстила их вольница, сохранили и передали нам лучшее, что имели, не стали они ни пьяницами, ни лентяями, ни праздно шатающимися.
Вот оно, нужное для нас лирическое отступление.
Как только стало ясно, что предки бабушки Тани могли быть однодворцами, ревизские сказки деревни Шафтель раскрыли сразу их имена. Почти все они упомянуты среди однодворцев в делах 10-й, 8-й, 7-й, 6-й и 5-й ревизий.[65] Удалось пройти по всем ступеням мельниковского рода, но на 4-й ревизии все обрывалось. И пришлось долго ломать голову прежде чем нашелся ход, позволивший продвинуться вглубь старины ещё почти на 100 лет и открыть имя нашего предка, одного из первопоселенцев в деревне Шафтель.
И снова здесь начинается интрига. Шафтель принадлежала к Чембарскому уезду, но нет в архивах ревизских сказок 3-й ревизии этого уезда. Документы 1-ой и 2-ой ревизий в архиве отсутствуют и, следовательно, ть дальнейшие разыскания невозможны.
Так говорили мне многие архивисты. Казалось, что все достоверное уже известно, ручеек сведений иссяк, но верить в это никак не хотелось. Ведь должен же быть перечень документов по 3-й ревизии, ведь делали же по этим документам так называемую роспись дел.
Тамара Борисовна Яковлева подтвердила, что, действительно, роспись делали, но еще не закончили. И показала копию в незавершенном, непереплетенном виде. Там, перечитывая подряд сведения о делах ревизских сказок Завального стана, я наткнулся на то, что разыскивал (ГАПО,
ф. 60, оп.4, д.5, л.333), но… среди ревизских сказок Верхнеломовского уезда!
Вот этот документ.
«… 1762 году Верхнеломовского уезду Завальном стану деревня Шафтель однодворец Иван Леонтьев Мельников… по последней 1747 года ревизии (неверно: 1745 г., что установлено сопоставлением возрастов членов семьи по 3-ей и 4-ой ревизиям. – Н. В.) в подушном окладе и с того же числа разными случаями убыли и после того вновь рождены…» И далее о себе сообщает: «А именно. Я сказкоподатель Иван Мельников по последней ревизии лета – 46 лет, налицо ныне 63 года. Его жена Степанида Терентьева лета – 8, ныне налицо 25 лет. Иван по последней ревизии лета – 4 года, умер 759 г.» Вот он, Иван Леонтьевич Мельников, и был первопоселенцем в деревне Шафтель. Это мой прадед в восьмом колене, родившийся в конце XVII века.
Он был, видимо, достаточно грамотным, чтобы самому подавать ревизскую сказку, и был самостоятельным в своих решениях, поскольку кроме его семьи из 4-х человек, в этих ревизских сказках других однодворцев нет, хотя иные, более поздние документы говорят, что они в деревне в это время были. Объяснение этому дала подсказка М.С. Полубоярова: места эти заселялись не только однодворцами из Верхнего - Ломова., но и из Инсара.
А теперь так и хочется сказать: видно, знал пращур о том, что будет потомок разыскивать его следы. И он для нас постарался их оставить – только о своей семье и ни о ком более.
В «Ведомостях 3-й ревизии Чембарского уезда за 1762 г.» есть указания на то, откуда они появились в деревне Шафтель – из Верхнеломовского уезда. Это может объяснить, почему ревизская сказка 3-й ревизии по деревне Шафтель (с 1780 года – она Чембарского уезда) оказалась среди документов Верхнего Ломова. Это ведь привычно и, причем, связь с крепостью никогда не прерывалась.
А. Хвощев в своих известных «Очерках по истории Пензенского края» (1922 г.) писал: «…г.Керенск (в настоящее время г. Вадинск, - Н.В.) в виде острожка был ( основан) на краю степи в 1635 или 1636году…в 1636 году одновременно были построены и оборудовны людьми и снаряжением «новый верхний город» и « острог» на реке Ломовой – Верхний Ломов…»
Изучая содержание «Десятен Пензенского края (1669-1696)», в разделе «Керенские десятни 1692 г.», я обнаружил среди неповерстанных, т.е. неопределенных по месту службы, упоминания о служилом человеке Федьке Иванове сыне Мельникове. Он мог быть одним из родственников шафтельских Мельниковых или даже дедом Ивана Леонтьева. Вероятность того, что это упомянут мой прадед в 10 колене, достаточно велика тем более, что служилые люди засечной черты хорошо учитывались: другие Мельниковы в «Десятнях» не упомянуты, а верхнеломовская крепость и керенский «острожек» на засечной черте были основаны почти одновременно.
Как же складывались жизнь и судьба наших пращуров-однодворцев из деревни Шафтель. Документы подсказали, откуда они пришли, и подтвердили постоянные связи засечной черты с крепостью в Верхнем Ломове. Когда основалась и заселилась деревня Шафтель? В начале новой колонизации Пензенского края. До большого заселения на месте деревни могла быть «сторóжа». Уж больно удачное для нее место! Поселение запирало свободный проход между заболоченными отрогами леса Илень и глубоченным и непроезжим оврагом – каньоном речки Шафтель, давшей название деревни Шафтель. Рогатки и бороны, брошенные в траву вверх зубьями, делали этот проход малодоступным для прохода конницы «Ведомости» (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69, л. 7 об.) эту речку называют Шафтелюйкой, (русифицированным именем. – Н.В.). В наше время этот малюсенький ручеек трудно назвать речкой. Гидроним Шафтель (название речушки), как я уже сообщал, упоминается в документах 1700 года и определенно восходит к названию этой речки, притока Большого Чембара, и дано древними аборигенами края мордвами. Они и передали её название следующим поселенцам этих мест. Что косвенно указывает о, возможно, более раннем происхождении самой деревни Шафтель, или о древних поселениях мордвы, может быть, задолго до запустения чембарского края и превращения в «Дикое поле». Большинство микрогидронимов моложе по времени возникновения и восходят к периоду вторичной русской колонизации земель в «поле».
Жизнь служилых людей на окраине Московского государства, в «Завальном стану», была полна тревог и тягот. Разбойные кочевые ватаги постоянно бродили по просторам «Дикого поля», не давая спокойно заниматься хлебопашеством. И когда, сбившись в большую орду, они нападали, дымом заволакивало южный окаем горизонта, вставали вдали черные сигнальные столбы дыма, зажженных в смоляных и дегтярных бочках, бешеным галопом нёсся гонец с боевым значком на копье, надсадно орал встречным о появлении врага, докладывал сотнику, затем в седло своего коня садился другой станичник и мчался с докладом уже в крепость к воеводе и коменданту, чтобы передать плохую весть.
Взвоет и загудит набатом колокол у караульной избы острожка, взвоют и заголосят бабы, похватают старухи детей да молодых девок и побегут прятаться в овраги и потаенные места леса Илень. Станичники облачатся в доспехи (у кого они были), собьются в дружину и пойдет молодуха, держась за стремя, за своим суженым защитником, молясь за него и благословляя. В Шафтели убежище было близко – лес Илень за околицей.
В этом отличие быта служилых людей в Диком поле от быта городов-крепостей: нет обороны и защиты крепостных стен. Надейся только на себя, на свою силу, смекалку, на помощь и локтевую связь с другом боевым товарищем. «Очень часто гонец опаздывал с известием о беде. Кочевники нападали с таким напором, что гонцы не поспевали, а даже отставали от орды» («Об особенностях стражной службы в Чембарском уезде, стр.30; А. Хвощев. Очерки по истории Пензенского края, 1922).
Конечно, поселения служилых людей-однодворцев не могли оказать значительного сопротивления громадным кочевым ордам. Но этого от них и не требовалось. Задержать, не дать напасть врасплох – вот и вся задача этих поселений.
В истории Пензенского края известно о нескольких больших нападений кочевников на города и села. В 1680 г. пришли разбойные ватаги, пожгли села и слободы вокруг Пензы, сожгли в городе триста пятьдесят дворов, но крепости не взяли. В 1717 г. во время «Большого кубанского погрома» пострадала почти вся территория Пензенского края, вплоть до Саранска (об этом писали А.Л. Хвощев и другие исследователи). Вблизи Шафтели были разорены и сожжены деревни Ростовка, Тархово, Кошкарово, Щепотьево, Колона, Чембар и др.[66] И если среди перечисленных нет Шафтели, то это из-за ее малости, или же не пошла орда той дорогой, которую запирала эта деревенька.
Теперь становится понятным, откуда в рассказах моей бабушки Татьяны Егоровны так много упоминаний о разбойных делах в округе. Ведь были разбойные нападения не только крымских, ногайских и кубанских «татар», и своих «кудеяров» хватало. И в рассказах-преданиях бабушки был перепев устных легенд старого быта однодворцев – отголосок их борьбы с кочевниками на просторах «Дикого поля». Постоянные тяготы и тревоги заставляли держаться друг за друга, вместе легче переносить все невзгоды. И это наложило заметный отпечаток на психологию этих служилых людей: будь сам надежен и выбирай надежных друзей-товарищей. Это способствовало созданию подобия касты: женились только на однодворческих или вольноотпущенных невестах. Крепостные красавицы в расчет не брались.
Можно проследить, как однодворцы Мельниковы, исходя из своих сословно-кастовых интересов, выбирали спутниц жизни – матерей детей своих. Жена первопоселенца Ивана Леонтьевича Мельникова, Степанида Терентьевна, «взята по отпускной той же округи села Полян помещика Василия Хлопова». Когда я выразил одобрение решению помещика и удивился его доброте, то мне архивисты возразили: «Что вы, Николай Петрович, ведь за нее наверняка заплатили выкуп и не маленький. Никакой доброты помещика здесь нет».
Жена сына Ивана Леонтьевича, Ильи Ивановича, – Прасковья Ивановна «взята из Верхне-Ломовской округи села Пачелма – однодворческая дочь». Жена сына Ильи Ивановича, Алексея Ильича, – Авдотья Петровна «взята из той же округи села Полян – однодворческая дочь». Можно продолжать и дальше, но и так уже ясно: среди жен станичников преобладали однодворческие или вольноотпущенные дочери. А их родина, откуда они пришли в чембарские края, постоянно напоминает о себе выбором невест из сел Верхнеломовской округи. Родственные связи с ними никогда не прерывались. Документальным подтверждением сословно-кастовых интересов однодворцев являются «Наказы» Екатерине II. Об этом много написано в монографии М.Т. Белявского «Однодворцы Черноземья» (М., Изд-во МГУ имени Ломоносова, 1984 г.
В «Наказах» однодворцев Воронежской, Белгородской губерний и Тамбовской провинции множество жалоб и обид на притеснение их, бывших служилых людей. Государство требовало от них, чтобы они не только несли воинскую службу, но и «всякие подати платили и поделки делали». Однодворцы же гнули свое: они положили много трудов, пота и крови для укрепления Русского государства, их заслуги при прежних царях признавались и ценились и однодворцы ставились наравне с дворянами, а теперь, видите ли, дворяне и царские чиновники почитают их даже ниже купеческого звания. И жаловались на бесчинства дворян, которые «чинят нам немалые нужды и разорении. И ко двору пришед, чинят разбой и ограблении, и в полях сенокос отымают, и сено кошенное с сенокосов к себе свозят. В лесах нас ловят и хлеб наш скотом своим побивают» (Белявский, стр. 266).
Не понимали они, что феодально-крепостническое государство не могло иметь другой политики, кроме низведения этого слоя «свободных людей» до уровня государственных крестьян, с обложением их подушными податями, рекрутскими и другими повинностями. Обиды их были, в известной степени, наивными. Мавр сделал дело – мавр может уходить. И их «ушли». Превратили указом 1866 года в государственных крестьян.
Это прямо коснулось, естественно, и однодворцев Шафтели. Сторожевой пост, каким деревня Шафтель, видимо, всё-таки, считалась, наложил такой глубокий отпечаток на ее быт, что его следы заметны были и в наше время. Так, я еще помню часовенку со звонницей и набатным колоколом посреди деревни. Позже он был перевешен на пожарную стоянку, а часовенку разобрали.
«Сторожевой пост»… Его обитатели, считая себя, государевыми людьми, вели общественное и личное хозяйство. По дороге, ведущей из середины деревни в лес Илень, на околице, было построено три амбара – под одну крышу, со строгаными и плотно пригнанными полами. Амбары стояли на «стульях», солидных осмоленных дубовых кряжах. Так хранился «государев запас», периодически ими возобновляемый. Далее на околице стояла ветряная мельница. Особой приметой деревни был родник, питавший водой почти всю деревню. Родник был хорошо обихожен. Мощная водяная жила была поймана и обсажена солидной дубовой трубой. Первая вытекающая струя расходилась по ведрам и бадейкам. Ложе струи родника было выложено камнем, и вода перетекала каскадом последовательно в две большие срубовые колоды. Из первой заправляли водовозки, последняя колода служила для поения скота. Около каменного желоба стояли две дубовые, долбленые ступы для стирки холщевого суровья – толчения его пестом с последующим расстиланием на лугу для отбеливания на солнце. Рядом положен камень-голыш, для стирки-полоскания посконного белья – расстилая и ударяя по нему вальком.
Родник располагается в самом низу оврага, и крутая прямая дорога к нему также выложена камнем-дикарем. При такой крутизне с груженым возом выехать невозможно. Для этого служила «косая дорога», проложенная по срытой полке оврага.
Вот это и было зримыми следами трудов «государевых людей». Все это теперь уже утрачено. Нигде я больше не видел такого. Это и заставило меня так подробно описать прошлое этого места.
Написал я об этом роднике и вдруг припомнил: были же еще похожие родники и не один. Много лет спустя, когда мы жили уже в Лермонтове (Тарханах), мы с мамой бродили по большому, долгому оврагу, заросшему ягодником на пологих склонах. Тарханцы называли этот овраг вершиной – отрогом кошкаровского оврага. Было жарко, хотелось пить. «Этому легко помочь. Пойдем!» – сказала мама и повела меня к известному ей месту. Подошли к большому, чёрному срубовому колодцу-роднику, из двух отделений – большого и малого. «Пей из малого – людского, другой – для лошадей. И помни, ты пьешь из «Арестантского колодца», – наставительно, по-учительски добавила мама. – За порядок на этом колодце-роднике и за заготовку дров к вечернему костру для стражи и арестантов тарханский староста перед жандармами головой отвечал. Теперь отвечать и не перед кем, и некому, вот колодец и ветшает. А какой краеведческий интерес он представляет, и оценить невозможно. Наша большая дорога – это ведь ответвление, веточка большого сибирского тракта – «владимирки». От чембарской пересыльной тюрьмы до этого места только и мог дойти в кандалах за день колодник. Не все были виновны – поклонимся их памяти». Такой неожиданный историко-краеведческий урок преподала мне тогда мама.
А теперь, подобно библейским или восточным родословиям из «Тысяча и одной ночи», мы можем перечислить всех предков нашей бабушки Татьяны Егоровны (см. Приложение 1, генеалогическую схему).
У Леонтия Мельникова был сын Иван.
У Ивана Леонтьевича Мельникова и его жены Степаниды Терентьевны среди детей был сын Илья.
У Ильи Ивановича Мельникова и его жены Прасковьи Ивановны среди детей был сын Артем.
У Артема Ильича Мельникова и его жены Евгении Степановны среди детей был сын Осип.
У Осипа Артемьевича Мельникова и его жены Аксиньи Семеновны среди детей был сын Матвей.
У Матвея Осиповича Мельникова и его жены Федосьи Матвеевны среди детей был сын Егор.
У Егора Матвеевича Мельникова было восемь детей. Среди оставшихся в живых троих и была Татьяна Егоровна – наша бабушка, героиня моего рассказа.
Её прапрадед – Артем Ильич – дал её роду уличную фамилию Артемовы. Под этой фамилией нас, его потомков, и знавали в Шафтели.
Таким образом, эта ветвь родословия имеет две фамилии: Мельниковы и Артемовы.
...Над крутым откосом в Пензе стоит памятник Первопоселенцу с конем, плугом и копьем с боевым значком. Но кому этот памятник, чей это образ, кого он изображает? Строителей этой крепости было много. Служили в ней стрельцы, пушкари, драгуны, казаки, черкасы, воротники, засечные сторожа, жившие интересами обороны крепости в слободах вокруг неё. Но это не все обитатели города. В «Строельной книге города Пензы», опубликованной в Москве в 1898 г., в предисловии В. Борисова отмечается (стр. 5), что строельная книга «знакомит нас с тем крайне любопытным фактом, что в Пензе, кроме двух обыкновенных групп, из которых складывалось вообще население новопостроенных городов – «сходцев» и «сведенцев», была ещё третья группа довольно многочисленная – это «ссылочные люди» и, притом, за одно только преступление – за «воровское денежное дело». Таким образом, часть населения пензенского «посада» составилась первоначально из фальшивомонетчиков. Между прочим, говорится далее в предисловии В. Борисова, «Уложение о наказаниях» требовало за делание фальшивой монеты исключительного наказания – смертной казни «через залитие горла расплавленным металлом». Фальшивомонетчикам, оказавшимся в Пензе, повезло: казнь им заменили ссылкой. Но, видно, несладкая житуха была в этом городе, коли приравнивалась к залитию горла расплавленным металлом.
Также и среди служилых людей – пушкарей, стрельцов, копейщиков – попадались «ссылочные люди». Пенза стала для них своеобразным «штрафным батальоном».
Но «ничто на Земле не проходит беcследно», и нет худа без добра. Фальшивомонетчики оставили пензякам в наследство мастеровитость и страсть к художничеству, давшую славу пензенской художнической школе. Мастерство не спрячешь, а оно у них было. А без него даже плохонькую фальшивую монету не сделаешь. Конечно не «денежным ворам» поставили памятник, а хлебопашцам и воинам, ступившим твердой ногой в «Диком поле ковыла со копьем, о плуг и о конь», тем, кто «от земли кормились, от ворогов отбивались».
Кланяйтесь теперь этому замечательному памятнику, прямые потомки первопоселенцев! Это памятник нашим пращурам – предкам моей бабушки Татьяны Егоровны Мельниковой, наших с вами прадедов и прабабушек.
…И снова мы продолжаем нашу поездку из Вехова в Щепотьево – наше путешествие во времени и пространстве.
Осталась позади Шафтель, овраг, который не вдруг переедешь, так он глубок и так круты его скаты, поле – и вот он, лесок Сот, и вот деревенька Подсот. В этой поездке меня впервые мама познакомила со всей порослью дедовой матвеевской родни: с двоюродными дедами Дмитрием Андреевичем и Федором Андреевичем Матвеевыми, её двоюродными сестрами тетей Полей – Полиной Дмитриевной, крестной моей мамы, тетей Галей и двоюродным братом мамы Петром.
А затем после встречи и застолья повела меня мама познакомить, а точнее, показать старинному другу моего деда Семена Андреевича – Ивану Никаноровичу Потолкову. Они долго и оживленно разговаривали, и позже я понял одно из этих бесед: память о деде связывает вместе и родню и друзей. И здесь в Подсоте естественная остановка нашего путешествия.
ПОДСОТ И НАШИ ПОДСОТСКИЕ ПРАЩУРЫ
Деревня Подсот во все времена была небольшой, а сейчас просто выморочной, умирающей. Но подобно многим деревням, которые не взяли многолюдностью и размерами, она богата своими названиями. В них даже можно запутаться. Подсот, Вершина, Липяги – это всё названия одной этой маленькой деревеньки, под которыми она упоминается в архивах. Если не быть внимательным, можно и запутаться в них. Названия связаны с маленьким лесочком, к которому она не впритык прислонилась. Суходольный лес Сот был бортным, медовым угодьем жителей близлежащих сёл. Это и подсказало назвать эту деревню – Липяги или Подсот.[67] (Не далёкий от нее лес Илень – почти сплошь дубняк – интереса для бортников, наверное, не представлял.)
Время возникновения деревни документально установить не удалось но, по всей вероятности, она возникла одновременно с другими селами, заселявшими просторы «Дикого поля» после 1700 года.[68] Устные предания жителей говорят о том, и они упорно стоят на этом, что основалась деревня в 1735 году. Это мне сообщила старейшая жительница Подсота, а мне родственница – внучатная тетя Галина Федоровна Панюшкина. В 1762 г. деревней владели пять помещиков.[69] Пять на такую-то малюсенькую деревеньку!
«Ведомости по 3 – ей ревизии Чембарского уезда» ( ГАПО, Ф.60, оп.4 д.69) сообщают: «…Оное сельцо состоит при Протоке».
Эта речка единственная в округе с таким названием. Странное название (мало ли разных проток, но нет с таким названием рек), но нам принять его придется. Деревенька располагается при истоке (вершине) Протоки. И это дало ещё одно название деревни – Вершина. Только после впадения Протоки в Марарайку – (в других документах она названа Милорайкой, Мирорайкой и т.д. – Н.В.) Марорайка становится более похожей на реку. Исток Марарайки – в овраге возле тарханской рощи Долгой. Место около Долгой богато родниками. Один выходил из земли даже на совершенно ровном месте. Ранее до распашки полей вокруг истока русло ее не было заилено (причина – водная эрозия пахотного слоя), и родники могли питать ее. Теперь же заиливание русла совершенно прекратило сток воды. И в русле её существуют в настоящее время три бессточных пруда, запитываемых весенними паводковыми водами.
«Большой пруд» – так называют пруд в Тарханах. Во времена, на которые я ссылаюсь, это был единственный пруд в ее русле.
До впадения Протоки, этой коротенькой речки (длина ее едва ли более 3-5 км), что представляет собой Марарайка? Суходольный овраг с цепью маленьких непроточных лужиц с паводковой водой, или водой ушедшего или спущенного пруда. Я наблюдал это много раз, когда «Большой пруд» уходил или его спускали. Родники Протоки и дают возможность Марарайке стать речкой, сделать ее, малюсенькую, – знаменитой.
Архивные документы[70] дают сведения о происхождении подсотских первопоселенцев из Воронежской губернии, Верхнеломовского уезда, который в то время входил в эту губернию.
В сей маленькой деревне и оказались первопоселенцами предки моего деда со стороны моей матери. Кем они были? Поскольку деревня владельческая, т.е. вотчина помещиков, то, естественно, – крепостными крестьянами.
Раньше я уже отмечал, что помещики могли и продавать, и дарить крестьян, которыми владели. И семьи наших пращуров из Подсота тому яркий пример. На протяжении жизни только одного поколения их семью дважды дарили,[71] передаривали, продавали и перепродавали.[72] Кому же и кого дарили? Подарили малолетнему сыночку. А подарили этому недорослю двоих мужиков 35 и 23 лет и мальчика 8 лет, крестьянские души женского пола не в счет. Старший из них – наш прямой предок. Ну, как? Хороши живые игрушки?
В другом месте об этой семье написано: «Все оные крестьяне куплены в 1800 году у помещика Аникея Теплова, а писанные за капралом Александр Бигловым в оной деревне».[73]
Последняя запись более чем странная. Помещик Еникей (Аникей) Теплов по документам не был владельцем крестьян в деревне Подсот. Он владел крестьянами в Малом Чембаре, сельце Волчкове тож, и в Пачелме, Никольское тож, Верхнеломовского уезда. Но среди владений его крестьянами нет упомянутых позднее в ревизских сказках по Подсоту.
И вообще так и непонятно, подарил Еникей Теплов их или продал. Ни дарственной, ни купчей я не обнаружил. Да и как он их мог продавать или дарить, непонятно. Ведь они в деревне Подсот жили давно и раньше, а владельцем крестьян в той деревне он не являлся. И записаны они за ним не были.
Темнят что-то те, кто подавал ревизские сказки. И ясно лишь одно, не то прапорщик, не то поручик Еникей Теплов и капрал Александр Биглов знали друг друга, поскольку были помещиками в Пачелме, Никольском тож, Верхнеломовского уезда и, возможно, эти дарения и перепродажи были одним из способов уйти от налогов. Подобное делали и раньше.
Мной прослежена родословная моего деда Семена Андреевича от времени появления его предков на пензенской земле и до его рождения. Не хочу описывать все перипетии поиска. Как это мной делалось, я описал раньше, и нет нужды повторяться. Поиск давно обрел черты рутины, и лишь в отдельных интересных местах я дам свой комментарий. Описывать родословную буду в хронологическом порядке, а не в порядке хода поиска – от известного к неизвестному. Думаю, так интересней для читателя.
Первые сведения о подсотских пращурах есть в ревизской сказке 3-ей ревизии 1762 г. по «вотчине… недоросля Пантелея Миронова сына (фамилия неразборчива. – Н.В.) в деревне Вершины, Подсот тож, в Верхнеломовском уезде Завальном стану». В ней сказано о двух по 2-ой ревизии 1745 г. братьях, Михаиле и Гурьяне Васильевых детях Серебряковых. Им было: Михаилу Серебрякову 40 лет, Гурьяну Васильевичу – 39. Последний и есть основатель рода моего деда Семена Андреевича. Гурьян Васильевич и Варвара Алексеевна Серебряковы – мои прадед и прабабушка в седьмом поколении.
Недолго эта фамилия сохранялась за представителями рода. Сын их Матвей Гурьянов и его жена Меланья Фролова дали новую фамилию своим потомкам – Матвеевы.[74] Так основался их подсотский род.
Вот семью их сына Николая Матвеевича и внука Ивана дарили и передаривали, продавали и перепродавали в 1795, 1811 и 1820 гг. (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 140, 1795 г. Ревизская сказка 5-й ревизии).
Николай Матвеевич и жена его Федосья Андреевна имели сына Ивана, рожденного в 1803 г.
Иван Николаевич Матвеев (Серебряков) был женат на Екатерине Алексеевне.
В 1842 году у них родился сын Андрей – будущий отец моего деда Семена Андреевича.
Андрея Ивановича Матвеева должна помнить моя бабушка Татьяна Егоровна. Когда она вышла замуж в их семью, ему в 1905 г. могло быть 63 года.
Андрей Иванович был женат на Анне Никитичне.
В 1874 году у них родился сын Дмитрий – мой двоюродный дед (ГАПО, ф.182, оп.7а, д.8, 7 февраля 1874 г., л. 898 об.), которого я хорошо помню.
Дмитрий Андреевич по-доброму относился к своей племяннице – моей матери, и когда мы приезжали к ним, всегда был со мной на дружеской ноге, много рассказывал, как управиться с лошадью, и давал первые уроки управления возом со снопами хлеба, когда брал меня с собой в поле. Такое запоминается на всю жизнь.
Через десять лет, 30 января 1884 года, у Андрея Ивановича родился сын – Семен «…деревни Подсот крестьянина собственника Андрея Иванова Матвеева и законной его жены Анисьи Леонтьевой… Восприемники – той же деревни крестьянин собственник Михаил Петров и крестьянская жена Анна Леонтьева Запевалова (ГАПО, ф. 182, оп. 7, метрическая книга села Тархан, л.176). Запись эта дала пищу для размышлений. Ведь первый сын его Дмитрий, рожденный десять лет назад, имел мать Анну Никитичну, а Семен – Анисью Леонтьевну. Откуда она взялась? Потребовалась проверка этого факта. Женился Андрей Иванович в 1861 году:
«1861 г. 23 февраля. Деревни Подсота господина Павла Москвина крестьянин Андрей Иванов, православный, первым браком, 19 лет. Невеста села Тархова господина Николая Иванова Москвина крестьянская девица Анна Никишина, православная, первым браком, 16 лет». Это первое упоминание об Анне Никитичне, их потом будет много в фонде №182.[75] И во всех документах она – жена Андрея Ивановича.
Откуда же в 1884 г. появилась Анисья Леонтьевна? Я проверил записи метрических книг села Тархан за много лет, искал Анну Никитичну среди умерших до 1883 г., искал сведения о втором бракосочетании Андрея Ивановича Матвеева и таких сведений не обнаружил. Долго я ломал голову над очередной загадкой, пока не пришла в голову счастливая мысль. А как звали мать у младшего брата Семена Андреевича, Федора? Дяди Феди, как звала его мама. Кинулся проверять по метрическим книгам тарханской церкви и обнаружил, что у него мать – Анна Никитична.[76] Тарханский поп, видимо, напутал.
В этой же церкви 18 февраля 1905 г. обвенчались Семен Андреевич и Татьяна Егоровна Матвеевы.
ЛЕГЕНДА И ТРАГЕДИЯ ДЕДА
СЕМЕНА АНДРЕЕВИЧА МАТВЕЕВА
Мои подсотские пращуры, в отличие от щепотьевских и шафтельских, обделены семейными легендами, мной слышанными. В Подсоте я бывал только наездами, да и было это в моем малом возрасте в довоенное время. И мать, и бабушка Таня также не жили подолгу в Подсоте, и это тоже обеднило наши легенды…
…Ветряки по всему неоглядному горизонту, торопливо или неспешно, солидно машущие крыльями. Странно, но именно ветряки и легенды о деде Семене связаны общей, невидимой, но крепкой нитью. Ветряные мельницы были обычными в нашем сельском пейзаже и махали они крыльями с незапамятных времен до послевоенного времени, а потом растворились в потемках истории и из памяти людей исчезли без следа.
Я был свидетелем постройки, наверное, одной из последних ветряных мельниц в нашей округе. Тогда мне было просто по-мальчишески любопытно это строительство, а потом, уже будучи инженером, я сумел оценить всю оригинальность и сложность, по сельским меркам, этой машины, этого сооружения.
…В 1939 г., когда мы на лето приехали в Щепотьево, я на выгоне, за нашим садом, увидел большую работающую артель и начало какого-то строительства. Спросил, что это там такое. «А ветряк плотницкая артель ставит. Надоела пукалка. – Так собеседник назвал нефтянку – нефтяной двигатель, крутивший жернова мельницы возле Тарасова сада. – То горючего у них нет, то неисправна, то механику заводить неохота. С ветряком способней. Вот и подрядилась артель у колхоза. Делают, а видать, сурьезные, тверезые люди».
На выгоне во всю кипела работа. Навезено было много леса-кругляка. Поставлены высокие козлы с помостами и покатами для закатывания бревен. Большущими маховыми продольными пилами, по двое на смену, упористо работала на них артель: пилила бревна на доски и брусья – заготовки для строительства. Все было для меня внове: и как выбирали из штабеля нужных размеров бревна, и как размечали резы шнуркой и делали затесы, чтобы не перекатывались они на козлах, и как расклинивали рез при распиловке, и как разбиралась рукоять пилы при смене позиции реза бревна.
Во время одного из плотницких «роздыхов» меня подозвал к себе один, усадил рядом с собой на бревно: «Ну, что? Не узнаешь? Да ведь ты Лельки Матвевой сын?» – Его бородатое, загорелое лицо улыбалось. «Ой, дядя Иван, прости меня, не сразу узнал!» – оторопев, ответил я. Это был Иван Никанорович Потолков. Тот самый друг моего деда Семена, которому в первый приезд в Подсот меня «показывала» мама, и потом каждый раз, когда мы там бывали, обязательно заходили его навестить.
Никак не ожидал его увидеть в этой артели, но вот судьба свела. Так начались его беседы со мной, неспешные разговоры и объяснения по плотницкому делу, а главное – воспоминания о моём деде, об общих их делах и играх, учебе, работе и дружбе.
Иван Никанорович родился на год раньше моего деда, в марте 1883 года. Записан под фамилией Малов. Отец его в метрических книгах записывался то под «уличной» фамилией Малов, то под «волостной» – Потолков: обычное дело в сельской жизни.
Что я вынес из воспоминаний Ивана Никаноровича о моём деде? Конечно не всё, что он мне рассказывал о нём за долгое строительство мельницы, я запомнил, но главное, о чем он постоянно упоминал, это большие способности деда в учебе: «Учитель только рот успеет открыть, а Семка уж готов продолжить. На лету хватал и был во всем на отличку. Не мог терпеть, чтоб в хвосте плестись. Только впереди всех».
Что это? Действительные черты дедова характера, или же Иван Никанорович идеализировал друга и пересказывал то, что узнал о Семене Андреевиче позже? Судить об этом трудно, но все эти его воспоминания хорошо согласуются с реальной судьбой деда.
В 1888 году на средства, завещанные помещицей Москвиной, в Подсоте, была построена и открыта школа. В 1890 г. в ней учились 43 ученика. В дальнейшем школа стала земской.[77] В открытии помещицей школы виден пример Толстого и Чехова. В эту полуцерковную, полусветскую школу и бегал учиться мой дед. Не велик, по нынешним понятиям, объем знаний, вынесенный из неё, но школа сделала главное: привила мальчишке вкус к учебе, приобретению знаний, превратила это в жизненную потребность.
Самый худший вид рабства – невежество, поскольку оно, сидящее внутри нас самих, и есть господин, определяющий и твои поступки, и твои помыслы. Не всем дано освободиться от его власти: многие становятся добровольно жалкими рабами невежества. Дед Семен счастливо избежал этого. Простая деревенская школа заронила в его душу искорку Знания и сделала главное – научила учиться.
После женитьбы в 1905 году он был призван в армию. Служба проходила на Дальнем Востоке, в Благовещенске. На службе был он не последним солдатом. Служил в артиллерии и, как рассказывала мама, постоянно отличался на так называемых императорских смотрах. Видя его усердие и способности, ему предложили остаться на сверхсрочную службу. Карьера военного, по-видимому, деду представлялась хорошей жизненной перспективой. Война с Японией показала важность ведения артиллерийского огня с закрытых позиций, через головы своих войск. Эта наука непростая, она требует при пользовании таблицами стрельбы хотя бы элементарных знаний математики. Дед овладел ими и понял, что в артиллерии нужны люди грамотные, образованные, и, понимая это, выслужился сначала до фельдфебеля (унтер-офицерский чин, вроде старшины в наше время), а затем к нему, как к сверхсрочнику, приехала семья, и дед решил начать самостоятельно учиться. Видимо, ему в этом сложном и трудном для деревенского парня деле кто-то помогал из офицеров или учителей. В то время поощрялись самостоятельные занятия и сдача экзаменов экстерном за весь курс реального училища (подобие современной десятилетки, но с техническим уклоном). Вскоре он посчитал себя достаточно подготовленным, предстал перед комиссией и выдержал экзамены, получив таким образом среднее образование. Это открывало возможность дальнейшего продвижения по службе.
Началась первая мировая война. Полк в один из дней подняли по тревоге, и через всю страну из Благовещенска много дней шел эшелон на Западный фронт. Проезжая мимо Байкала, думал ли, ведал ли мой дед, что пройдет еще пять суматошных, взбаламученных войнами лет, и из этих таежных мест, из-под Иркутска, им будет послана последняя весточка о себе домой, на родину. Не будет больше известий, а эта открытка на долгие годы останется последним приветом дому, семье и друзьям. Все это я узнал со слов бабушки и мамы.
А тогда, в 1939 году, так мне было интересно быть с Иваном Никаноровичем, слушать его рассказы и видеть их работу. Только потом я понял, какие это были мастера своего дела. Чего стоило, например, изготовление на моих глазах силовой передачи от горизонтального крыльевого вала (маховой вал, крылья-махи, так называли их мастера) на вертикальный вал-стояк. Стояк – это деревянный вал диаметром 35-40 см и длиной на всю высоту мельницы – 12-15 м. Вот там, наверху мельницы, и находятся колеса, образующие самую ответственную силовую передачу ветряка. Потом, учась в институте, я узнал, что подобные колеса составляют одну из самых сложных в проектировании и технологическом обеспечении коно-цилиндрическую цевочную лобовую передачу. И в металле мало кто решался её реализовать. А мастера, имея в руках только топор да пилу, в дереве решали эту задачку.
Тогда же я просто любовался их приемами, скрупулезностью и требовательностью к точности исполнения. Вот настелили, тщательно выстрогали и выверили плоскость площадки, вычертили на ней колеса в натуральную величину (диаметр не менее 3,5 м). В технике такая площадка называется плазом, а чертеж, который на ней делался, – плазовым чертежом – обычное дело в судо- и авиастроении. Затем начали сборку конструкции колеса. И если в работе при распиловке бревен на козлах рубахи от пота бывали мокрыми, то теперь медленные, размеренные, без спешки движения подчеркивали ответственность и точность того, что делалось. И потом без единого гвоздя, только окованное железным обручем, лежало готовое колесо под навесом и деревянными зубьями, торчащими из торца колеса, напоминало корону – венец работы мастеров.
Вот во время этой сложной, по-плотницки, работы, отдыхая, сидя со мной на бревне, Иван Никанорович среди прочих воспоминаний и разговоров много раз повторял свою главную мысль: «Жалко мне Семку, рано погиб. Большой человек из него выпестовывался. Ты, конечно, знаешь, что он был командиром полка в Красной Армии… Это Семка-то, ходивший по нашей деревне в лаптях да в худой одежонке. Я вот смотрю в кино на Чапаева и думаю: все, что ли, в Красной Армии друг на друга похожи? У Семки только усы пшенишные. А так, ни дать, ни взять, Чапай». Меня тогда удивила, растрогала, и даже потрясла наивная вера Ивана Никаноровича в высокое предназначенье друга.
Так, на этом бревне и мне был преподан один из самых главных нравственных уроков жизни, стоящий многих томов умных книг. Я и теперь с благодарностью поминаю Ивана Никаноровича Потолкова за высокий образец чистоты дружбы и верности памяти ушедшего друга. Безо всяких торжеств и высоких слов, исподволь, между плотницкими делами, передал он мне свою эстафету, свое понимание жизненных ценностей. Примет ли кто её от меня? Бревно рядом со мной пока что пусто.
Прежде чем продолжить свой рассказ-исследование, необходимо, на мой взгляд, разобраться в одной легенде, бытующей среди наших родственников и перешедшей даже в «Книгу Памяти». Найденные мной новые документы и переосмысленные старые позволяют сделать это и послужить примером обращения к давно известным и вновь найденным документам в поисках истины. Этот разбор позволит, на мой взгляд, более выпукло представить жизнь наших недальних предков, не умаляя ни их трудов, ни трудностей, ими преодоленных.
Напомню, что поженились мои дед и бабушка в 1905 году. В 1906 году в деревне родился у них первенец, моя мама. Дед Семен Андреевич был призван в армию, служил на Дальнем Востоке в Благовещенске и остался там на сверхсрочной службе. Как сверхсрочник имел право выписать семью. И бабушка Татьяна Егоровна решилась с дитём на руках поехать через всю страну к нему в Благовещенск. Для деревенской молодухи, нигде и ничего ранее толком не видевшей и не ведавшей в шафтельской глухомани, поехать по совершенно новой, толком недостроенной железной дороге, с ребенком на руках, поехать так далеко и так долго, со многими пересадками?! Это было для нее подвигом.
Вся деревня снаряжала и с плачем провожала ее в неизвестность. Было это, она потом сама об этом говорила, и трудно ей, и страшно. Ведь не день и не два длилась поездка, а месяц! Когда-то она ходила пешком в Киев, но тогда ее вели за собой монашки-паломницы по «святым местам», а она просто шла за ними. Тогда не было забот о ребенке. И хотя та дорога и длинная, и долгая, она была просто трудным удовольствием. А теперь… Она потом со смехом рассказывала, как, чтобы не платить за детский билет, сшила себе широченную юбку в шесть точей и научила дочку прятаться в ее складках, когда подходят незнакомые люди или проверяют билеты.
 И остался
в ее рассказах широченный Амур-батюшка, жизнь в гарнизоне и китайские крестьяне
– кули с того берега Амура. Там родилась еще одна ее дочь, моя тетя Катя, и… Но
вернемся к легенде, неизвестно откуда взявшейся, в которой говорится, что семья
деда Семена Андреевича Матвеева жила в родных местах еще до Первой мировой
войны, и он был призван в действующую армию из Чембара.
И остался
в ее рассказах широченный Амур-батюшка, жизнь в гарнизоне и китайские крестьяне
– кули с того берега Амура. Там родилась еще одна ее дочь, моя тетя Катя, и… Но
вернемся к легенде, неизвестно откуда взявшейся, в которой говорится, что семья
деда Семена Андреевича Матвеева жила в родных местах еще до Первой мировой
войны, и он был призван в действующую армию из Чембара.
Вот я держу в руках старую выцветшую фотографию – портрет довольно привлекательной женщины, самую дорогую реликвию моей мамы. Это портрет ее первой учительницы Жуковской в Благовещенской гимназии с трогательной надписью: «Моей самой лучшей и дорогой ученице».
Мама родилась в 1906 году. Несложные арифметические подсчеты позволяют сделать вывод: чтобы заслужить такую оценку ее трудам в учебе, нужно было жить в Благовещенске и в 1914 году, и позже. Т.е. семья их жила там после начала мировой войны. Запомним этот факт.
Ну, а как же с призывом Семена Андреевича Матвеева в армию из Чембара? В 1916 году он получил отпуск с фронта. Его семья в это время жила уже в родных краях. На радость встречи и печали скорого расставанья дед и бабушка решили сфотографироваться в Чембаре.
И вот в руках
у меня фотография деда. Вглядимся в трафарет на его погоне. Прочтем, что на нем
написано. Артиллерист, фельдфебель (это соответствует нынешнему званию старшины)
10-го Сибирского стрелкового полка. 10-й Сибирский полк до 1914 года
дислоцировался в Благовещенске, а в начале войны ушел на фронт. И дед вынужден
был оставить семью в самом тяжелейшем положении. К этому выводу приходишь после
изучения вновь найденных документов.
По легенде, бытующей среди наших родственников, сын деда Алексей Семенович Матвеев родился в Чембаре в 1913 году. Это даже вошло в «Книгу Памяти» погибших в Великой Отечественной войне. Мама же Ольга Семеновна всегда мне говорила, что он родился в 1914 году в Благовещенске. Бабушка тоже всегда говорила, что возвращалась она из Благовещенска с годовалым сыном на руках. Откуда такие разночтения?
Вот что мне рассказала моя мама. Когда Алексею Семеновичу (Лёльке по-семейному) исполнилось 14 лет, он захотел быть самостоятельным. Но для самостоятельной работы не хватало лет. В Чембаре, сославшись на утерю метрической выписки, он, прибавив года, оформил новую метрическую выписку. Что позволило ему устроиться работать избачём. Была такая раньше специальность – заведующий избой-читальней. Эта версия и вошла в «Книгу памяти».
Многие меня спросят: а зачем я это все рассказываю? Ну, во-первых, чтобы вы все прониклись ароматом тех лет: хочу прибавить свои года и прибавлю! Во-вторых, поймете и лучше оцените то, что сделала моя бабушка Татьяна Егоровна при возращении в родные края из Благовещенска.
 В 1917
году проходила в России сельскохозяйственная перепись. Подняв ее архивы, я
разыскал нужные для меня документы Министерства земледелия по Всероссийской
сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года. И вот я держу в руках «Карточку
для сплошной переписи сельских хозяйств».[78]
Эта карточка – своеобразный опросный лист, и она составлена для хозяйства моего
прадеда Мельникова Егора Матвеевича, Пензенской губернии, Чембарского уезда,
Полянской волости, селения Шафтель.
В 1917
году проходила в России сельскохозяйственная перепись. Подняв ее архивы, я
разыскал нужные для меня документы Министерства земледелия по Всероссийской
сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года. И вот я держу в руках «Карточку
для сплошной переписи сельских хозяйств».[78]
Эта карточка – своеобразный опросный лист, и она составлена для хозяйства моего
прадеда Мельникова Егора Матвеевича, Пензенской губернии, Чембарского уезда,
Полянской волости, селения Шафтель.
Какие только сведения она ни содержит! И сколько и каких лошадей он имеет, какой у него сельскохозяйственный инвентарь, сколько и какой живности в его хозяйстве, какие земельные угодья хозяйство имеет. Безо всяких обиняков сообщается, из какого он сословия – крестьянин, бывший государственный. А сколько трудоемких разысканий потребовалось сделать мне, дилетанту, для установления этой истины? Опросный лист сообщает о членах семьи в хозяйстве прадеда. Все дорогие мне родственники упомянуты в нем: бабушка Таня, ее дочь 11-ти лет (моя мама), ее вторая дочь 7-ми лет (моя тетя), ее сын трех лет (мой дядя), т.е. он родился в 1914 году.
Теперь после долгих разысканий мы можем подвести итоги, развеять неправомерную легенду и отдать должное нашей бабушке, ее силе и напористости, сумевшей приехать со всем своим хозяйством и малолетними детьми в 1915 году.
Но вернемся к дальнейшей судьбе Семена Андреевича Матвеева. Со слов бабушки и мамы, мне стало известно, что дед командовал полком. Во время мировой войны, на Западном фронте он получил свой первый офицерский чин прапорщика и стал командиром батареи. Когда произошла революция и началась гражданская война, весь полк в полном составе перешел на сторону красных; тогда деда и выбрали командиром полка. Капризная военная судьба бросала полк по разным фронтовым дорогам. И все же по переписке с родными и семьей можно было бы проследить его боевой путь. Но это как раз сделать и невозможно. Во время антоновского мятежа, когда часть Чембарского уезда и сам Чембар заняли антоновцы, а разъезды их маячили на околице Шафтели, бабушка уничтожила всю переписку с дедом. Хранить её в те лихие времена было опасно. И были сожжены все без исключения бумаги, осталась только одна его последняя открытка из-под Иркутска. Из неё стало понятно, что воевал он против Колчака и чешских легионеров.
Любая война, с какой бы целью она не велась, на бытовом уровне вырождается в разновидность узаконенного разбоя. И горький опыт народа говорил, что, коль пришли войска, жди реквизиций, конфискаций, контрибуций, а на деле оборачивалось это менее благозвучными словами: грабежами, мародерством, умыканием трудом нажитого добра. В лучшем случае дадут тебе бумагу, по которой никогда тебе ничего не вернут.
И для семьи бабушки Тани в деревне Шафтель антоновщина обернулась вынужденным забоем в хозяйстве всей скотины и припрятыванием всех припасов. Ножная швейная машинка «Зингер», привезенная бабушкой из Благовещенска, бывшая надежной кормилицей для неё и ставшая потом приданным моей матери, была спрятана в куче навоза. Чудо, что она все же сохранилась и после этого отменно работала и работает до сих пор.
Во время гражданской войны и после военной разрухи смешно было говорить о надежной почтовой или другой связи. А её отсутствие, отсутствие точных и проверенных сведений всегда восполняется слухами.
После окончания гражданской войны вплоть до начала Отечественной и даже позже до нас доходили слухи о судьбе деда. Полк не мог кануть, словно камень в воду, в безвестность, и подобно кругам по воде, эти слухи возникали волнами. В них всегда повторялось, что якобы полк попал в окружение, часть его из окружения вырвалась, а штаб во главе с командиром захвачен в плен. И дед как офицер был расстрелян, а его соратники, не имевшие никаких чинов в царской службе, повешены колчаковцами.
Было несколько попыток установить судьбу деда, но официальные запросы давали один ответ: пропал без вести. Драматический эпизод связан с попыткой выяснить судьбу отца моим дядей, братом моей мамы – Алексеем Семеновичем Матвеевым.
Он, имея на руках рекомендательное письмо и другие документы, ехал к командующему Дальневосточным военным округом маршалу Василию Блюхеру. Тот лично знал деда и мог помочь прояснить его судьбу. На перроне в Хабаровске, когда Алексей Семенович вышел из вагона поезда, он услышал: маршал Блюхер лишен всех званий и наград и как «враг народа» расстрелян. Шла очередная волна сталинских репрессий среди военных.
Дядя Лёля (так звали его в нашей семье) понял, какому риску он подвергается, и там же, на перроне, почел за благо уничтожить все документы, связанные с именами Блюхера и деда. Так эта ниточка оборвалась.
А репрессии, начавшись в 1936 г., продолжались. В это время, по подозрению как «враг народа» в лагерях томился и будущий герой Отечественной войны, один из талантливейших и обаятельнейших командиров – будущий маршал и дважды Герой Советского Союза и просто красивый человек Константин Константинович Рокоссовский. Уже после его смерти, читая военные мемуары и его биографию, я понял, что он мог знать лично моего деда. Во время гражданской войны, воюя на Восточном фронте против Колчака, он был командиром кавалерийского полка в 30-й дивизии 5-й армии. Дед был также командиром полка в это время и в этой армии. Командиров полков в армии немного, и они могли знать друг друга, или он мог знать его судьбу и судьбу полка. Но теперь и эта ниточка оборвана.
Трудно предугадать, какая судьба могла ожидать моего деда: подобно многим людям, имевшим почти одинаковую с ним биографию, он мог стать либо крупным военачальником, либо сгинуть в застенках сталинских лагерей, как многие из них. И тогда, быть может, его гибель от рук колчаковцев была бы благом для его семьи. Не дай бог быть родственником репрессированного!
Дважды, до Отечественной войны и значительно позже, доходили до нас слухи, что в одном сибирском селе есть братская могила, где похоронены жертвы расправы колчаковцев. И жители села позже назвали свое село Семеновским в честь имени командира, похороненного в той могиле. Где это село и где эта могила? В иные времена можно было бы заняться поисками, но на народную беду есть внук героя гражданской и Отечественной войн и замечательного детского писателя, так вот этот внук со своей шайкой поставили нас, старое поколение, на «мертвый якорь». Никуда теперь не двинешься, зато на каждом перекрестке долдонят о «свободе передвижения». С приобретенным опытом работы в архивах я мог бы попытаться найти сведения о судьбе деда в Российском государственном военном архиве (РГВА) в Москве. Но… смотрите писанное выше.
И вот последние слухи, особенно меня поразившие. В доперестроечное время в Пензе работала и процветала даже такая организация как «Гипромаш» – проектная контора. Работала в ней моя жена Лидия Ефимовна и начинали трудиться сыновья Алексей и Анатолий. Там же работал Радомир Александрович Милёхин, бывший морской офицер. Это было в 1980 или 1981 году. В те времена практиковались поездки на сельхозработы и другие формы так называемой «шефской помощи». Так и оказались в одной бригаде «шефов» мой сын Алексей и Радомир Милёхин. В один из вечеров, вылившихся в вечер воспоминаний, начали рассказывать друг другу, что знают о предках. И Радомир Александрович вдруг начал рассказ о своем деде. Дед его, Милёхин, служил в Красной Армии в должности начальника штаба полка. Полк попал в окружение и многих взяли в плен. Командир полка как бывший офицер был расстрелян, а «нижние чины» повешены, в их числе и дед Милёхина. Радомир Александрович назвал имя командира полка – Семен Матвеев и рассказал, что он, Радомир Александрович, в послевоенное время посетил вместе с родственниками место гибели и братскую могилу полка.
Бабушка говорила, что друг, который на их с дедом фотографии, повсюду был с ним. И фамилия его якобы Милёхин!? (Маленькая надежда, что Радомир Александрович поклонился могиле не только своего, но и нашего деда). И там ему стало известно, что в знак памяти погибших красноармейцев и их командира деревню жители переименовали в «Семенов Ключ». Это было сделано, по рассказам старожилов, в благодарность за все, что сделали бойцы полка для жителей этой деревни. По распоряжению командира, в деревню по желобам была проведена родниковая вода от источника, находившегося на расстоянии 1,5 км, из продовольственных запасов полка было выделено зерно и оказана помощь в полевых работах.
Деревня голодала: за поддержку красных белогвардейцы выгребли все запасы крестьян, всю живность и лошадей, оставили деревню умирать от голода. И как рассказывал Радомир Александрович, со слов старожилов того села, в результате внезапного нападения полк был окружен, почти весь уничтожен и рассеян, а пленных бойцов всех казнили.
Когда я услышал эту историю, испытал самое настоящее потрясение. Всю жизнь я думал о судьбе деда, она все время о себе напоминала беседами с мамой, бабушкой, друзьями и родными деда. И я уже никогда не надеялся, уже не чаял, что узнаю об этом что-то от других.
Но вот рассказ Радомира Александровича, который в мельчайших подробностях повторяет то, что узнал дядя Лёля от начальника политотдела дивизии, бывшего сослуживца деда по полку, который дополняет эти сведения и говорит, что у него есть фотография деда и его командира. А в своем рассказе начальник политотдела далее напоминал дяде Лёле, что в критический момент боя, по приказу командира полка, он должен был на последней тройке вырваться с боем из окружения и вывезти знамя полка и казну, что и выполнил. Сам же Семен Андреевич не оставил бойцов полка и разделил с ними трагическую судьбу.
Рассказывая Алексею Семеновичу о судьбе полка и его командира, в знак уважения к памяти Семена Андреевича Матвеева, дал его сослуживец документы и рекомендательное письмо к Василию Константиновичу Блюхеру.
…И вот в руках у Радомира Александровича фотография, возможно, моего деда и его сослуживцев как напоминание об этой таежной трагедии. Снова кто-то приоткрывал, в который раз, таинственную завесу. И… снова этот полог опустился и закрыл все. Когда, вдохновленный этим удивительным сообщением, я готов был кинуться к Радомиру Александровичу Милёхину, сын сказал: «Поздно, папа, мы опоздали. Радомира разбил паралич и лишил его речи, памяти и движения». А родственники не позволили нам рыться в фотоархиве. Так в последний раз оборвалась ниточка, ведшая, возможно, к разгадке судьбы деда.
Весть, в предвоенные годы услышанная Алексеем Семеновичем от начальника политотдела, могла бы привести его, так же как и Радомира, в места гибели его отца, а моего деда.
…Незадолго перед войной Алексей Семенович по обвинению в растрате был осужден и работал в составе железнодорожных строителей в Карелии. Началась Отечественная война. Дядя Лёля, ставший к этому времени «белобилетником» из-за сильной близорукости, несколько раз обращался к наркому обороны с просьбой направить его на фронт. Он добился этого. Призван был в Действующую армию в Мурманске. Ему было присвоено звание лейтенанта войск НКВД. И он был направлен в пограничные войска, отражавшие попытку противника прорваться к Мурманску. В августе 1941 года, находясь в разведке, был тяжело ранен, вынесен в расположение наших войск и умер 17 сентября в мурманском госпитале. Похоронен Алексей Семенович на городском кладбище Мурманска. Об этом есть запись в «Книге Памяти» Мурманской области. Ему было всего 27 лет.
По истории гражданской войны существует богатая литература. Изучение ее дало возможность глубже понять некоторые факты биографии моего деда Семена Андреевича. И как всегда, приходится начинать с уточнения устной легенды. По ней считалось, что он погиб в 1919 году и последнее сообщение о себе прислал из Иркутска. Но в течение всего 1919 года Иркутск был в руках белых и он, следовательно, не мог там быть в это время. После поражения белых колчаковских войск под Омском, Новониколаевском и Красноярском части 5-й армии вступили в Иркутск 7 марта 1920 года.[79] И, следовательно, Семен Андреевич был в это время еще жив.
В составе 5-й армии среди войск, бравших Иркутск, были 30-я стрелковая дивизия, впоследствии 30-я Иркутская Краснознаменная, в ней воевал Рокоссовский, и 51-я стрелковая дивизия, впоследствии 51-я Перекопская, под командованием Василия Константиновича Блюхера.[80] В конце декабря 1919 г. и до апреля 1920 г. 51-я стрелковая дивизия, находясь в резерве 5-й армии, участвовала в восстановлении народного хозяйства и полевых работах. До декабря 1919 года 30-я и 51-я дивизии находились в составе 3-й армии. По постановлению Реввоенсовета республики она была преобразована, наряду с другими, в Первую революционную армию труда.
Это было решение с очень тонким политическим и военным расчетом, сделанным по инициативе командарма 3-й армии Михаила Степановича Матиясевича, полковника бывшей царской армии, при поддержке его Лениным. Это позволяло, сохраняя фактическое подчинение соединений 3-й военному командованию 5-й армии, решать политические задачи в работе с местным населением и вводить в заблуждение, якобы расформированием войск фронта, японское военное командование в Забайкалье. Первая революционная армия труда была создана 15 января 1920 г.[81] В августе 1920 г. 51-я дивизия была переброшена на Южный фронт в Северную Таврию, под Перекоп.
И теперь в результате исследований, после стольких драматических совпадений фактов из разных источников, можно с высокой степенью вероятности считать: командир полка Красной Армии Семен Андреевич Матвеев, сражаясь в составе 51-й стрелковой дивизии под командованием Блюхера В.К., погиб не ранее марта и не позднее августа 1920 года.
Многое после поисков стало ясно в судьбе деда, но незавершенность разысканий, незнание дальнейшей его судьбы, незнание места последнего упокоения его не давали мне покоя и понуждали к продолжению поиска. Всю весну и лето 2001 года я готовил военно-археологическую экспедицию «Вахта Памяти 2001» по местам боев Великой Отечественной войны в Смоленской области. Работы и хлопот, а точнее, суеты и нервотрепки было столько, что о чем-то другом даже подумать не оставалось ни сил, ни времени. Но вот, наконец, тяжкие, а часто и бестолковые труды по организации этой экспедиции завершились и, воспользовавшись этой подвернувшейся оказией, вместе с ребятами-поисковиками я решил поехать до Москвы и там поработать над дедовой темой в архивах. Расстались с ними в Коломне. Я с надеждой приехал в Москву, но сработал закон подлости.
Вопреки календарным планам, читальные залы Российского государственного военного архива и Российского государственного архива Древних Актов оказались закрыты, а когда после ремонта они откроются, толком никто сказать не мог. Было от чего придти в отчаяние: столько надежд – и вот такая неудача. В Военном архиве на мои настойчивые просьбы проконсультировать по интересующим меня вопросам откликнулась начальник отдела Наталья Евгеньевна Елисеева. Мои материалы, которые я показал, ее заинтересовали. Она отметила в них ширину охвата исторических событий и, наконец, стало ясно, что подход к событиям и их оценка у нас с ней одинаковы, и мы симпатичны друг другу. Так сработал «человеческий фактор», и я не знаю, было ли лучше, если бы работал читальный зал, и я там пыхтел в одиночестве, роясь в архивных документах.
И все же в дальнейшем я добился того, что мне дважды позволили посетить РГВА и поработать в читальном зале: каждый раз примерно по неделе, или чуть более. Читальный зал к этому времени отремонтировали.
И вот что открыли документы. Согласно им в 51-й дивизии было бригадное деление. Состав бригад документы не уточняют. В состав бригад входили полки, что подтверждается приказами по 5-й армии. Вот почему я не стал трогать семейную легенду: дед Семен Андреевич Матвеев – командир полка. Читая ленты телеграфных переговоров 51-й дивизии, я нашел упоминание о каком-то Матвееве. Но кто это такой? Неизвестно. Работники РГВА приняли в моих делах самое активное участие и оказали большую помощь в разысканиях. Я давно, еще при жизни моего отца Петра Андреевича, познакомившего меня со многими архивными и музейными работниками, подметил их одну замечательную черту – энтузиазм и верность делу, которому они служат. Так и хочется сказать: добрая энергия древности, перешедшая в их души, движет ими и осеняет их чело нимбом святости и подвижничества.
Недолгая наша беседа с Натальей Евгеньевной дала многое: позволила четко сформулировать заказ на поиск для меня документов работниками архива, договориться о моей дальнейшей работе в архиве и получить обещание помощи мне в этом. А заключительная ее фраза, что я многое мог бы найти в сборнике документов «В боях рожденная» стала ключевой в моем дальнейшем поиске.
Вернувшись в Пензу, я начал думать, как разыскать этот сборник. Наталья Евгеньевна мне говорила, что он есть в Ленинской и Исторической библиотеках и в Иркутске. Я перебрал все возможные варианты заказа по межбиблиотечному абонементу и с тем пришел в Лермонтовскую библиотеку в Пензе. Там меня выслушали и посоветовали поискать сведения об этом сборнике в каталогах. Поиск оказался долгим, но, перебирая карточки очередного каталожного ящика, я на одной из карточек прочитал: «В боях рожденная. 1918-1920 гг. Боевой путь 5 армии. Сборник документов. Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство, 1985 г.» Получил книгу и начал изучать эти документы. Первые же их страницы поразили меня, а дальнейшее их изучение заставило изменить мои представления о гражданской войне.
Оказывается, и из документов это прямо вытекает, сражения Красной Армии имели характер хорошо продуманных и организованных, с военной точки зрения, операций. И не только энтузиазм народных масс, как это часто нам внушали, но и военный талант красных командующих решили исход борьбы. Они оказались и решительнее, и умнее, и дальновиднее своих противников, в конце концов, потерявших управление своими войсками и бесславно закончивших эти сражения под громкие проклятия своего народа. И об этом говорят не заклинания политиков, а сухие строчки военных приказов и донесений.
Документы прямо указывают, что в Белой Армии были среди высшего командования казнокрадство, корыстолюбие, спекуляция и прямое предательство, а в низах – моральное разложение и мародёрство. Но эти утверждения будут правильными лишь для конца колчаковщины. Вначале она была очень грозной силой. Кто же сделал Колчака сильным?
 У нас, на
мой взгляд, недооценивается роль мятежа чехословацкого корпуса в роковых,
трагических судьбах нашей Родины во время гражданской войны. А он едва ли не
самый главный: кто развязал эту войну в Поволжье и Сибири? И обеспечил ее
тяжёлое течение в самом начале.
У нас, на
мой взгляд, недооценивается роль мятежа чехословацкого корпуса в роковых,
трагических судьбах нашей Родины во время гражданской войны. А он едва ли не
самый главный: кто развязал эту войну в Поволжье и Сибири? И обеспечил ее
тяжёлое течение в самом начале.
Чехословацкий корпус своим мятежом закупорил всю железнодорожную магистраль от Пензы до Владивостока. Начался мятеж 25-26 мая 1918 года под крупным – южнее Пензы – ж.-д. узлом Ртищево и полыхнул дальше по всей линии.[82] О драматическом моменте прорыва мятежников в Пензу рассказал мне отец жены (тесть) Петров Ефим Никитович. Он проживал на углу Старо-Кузнечной улицы (теперь улица Суворова), долечивался дома после ранения на фронте, и был свидетелем этого боя.
Пенза – крупный ж.-д. узел, и миновать его мятежным чехам никак было нельзя. Как известно, им предложили разоружиться. Они отказались и пошли против слабенькой тогда революционной власти. Поезда с чехами подходили к Пензе с юга, от ближайшего полустанка Ардым – к Уральскому вокзалу (теперь вокзал Пенза-III), т.е. чехи наступали из-за реки Суры. Чтобы их остановить, за железной оградой балкона крайнего к реке дома улицы Предтеченской (теперь ул. Бакунина) установили пулеметы. Их огнем попытались остановить продвижение мятежников. Чешские снайперы, стреляя через реку, чему Ефим Никитович был свидетель, сняли наших пулеметчиков и по Карауловскому мосту (теперь Бакунинскому) и другим мостам ворвались в город. Слабый гарнизон, курсанты пулеметных курсов и интернациональный отряд мадьяр и верных нам чехов не могли устоять против их напора. Мятежники добились своего: ворвались в Пензу и смогли контролировать все станции железнодорожного узла. Угрозами и взятием заложников они заставили железнодорожников выполнить все их требования. Мятежные поезда прошли через Пензу.
Чехи оставили после себя в центре Пензы могилы бескорыстных интернациональных защитников революции. Как память об этих днях остались названия улиц: имени Кураева – героя этих дней, имени Кутузова – пулеметчика, погибшего при отражении нападения мятежников, имени Либерсона, расстрелянного заложника, и имя Боевой горы.
Мятеж чехословацкого корпуса оставил кровавый след – могилы во многих городах. И происходило это одновременно с пензенской трагедией по всей этой ж.-д. магистрали, начиная от Пензы.
Нижнеудинский клуб «Наше наследие» провел военно-историческое исследование: «Нижнеудинский фронт, май – июнь 1918 года» и опубликовал его в Нижнеудинской газете «Тракт» № 20 за 2009 год (Нижнеудинск - город Иркутской области). В этой публикации А.Каминского сообщается, что белогвардейский мятеж революционными властями в мае успешно подавлялся до тех пор, пока на помощь белым не пришли мятежные чешские легионеры. Тогда силы оказались на стороне белых и белочехов. Бои продолжались почти до конца июня, и в результате революционные власти потерпели поражение. После этого «победители» развязали в этой округе террор.
Белочешский мятеж оказался как бы камнем, сорвавшимся c горного склона: камнем, обрушившим «камнепад» гражданской войны на Россию.
Время Первой мировой войны – это время революций и заката европейских монархий. Многие монархи были связаны между собой кровным родством. Доживали повсюду монархии, как своеобразный «клуб по родственным интересам», или «профсоюз монархов», но они, как и прежде, вносили в мировую политику свой вклад: не тронь нашу кровь!
И их старались не трогать и не осложнять этим самым себе жизнь. Этим тонко воспользовались противники революции.
После Февраля 1917 г. Временное правительство 8 марта 1917 года арестовало Николая II и его семью. И направило её под домашний арест в Царское Село. Потом передумало (с глаз долой – из сердца вон), и 1 августа всю семью отправило в тобольскую ссылку. В то время Тобольск представлял собой захолустный городишко, жителей в котором едва ли было более 20 тыс. человек. Он был традиционным местом ссылки так называемых государственных преступников. И тогда Временное правительство, «под давлением общественности», сослало туда царскую семью, как бы в насмешку над нею.
Тобольск – городок с богатой историей политических ссылок. Советская власть установилась в нем только в марте 1918 года. После Октябрьской революции большевики не трогали царскую семью. За этих заложников (а таковыми персонами для них они теперь стали) надеялись, быть может, что-то выторговать у Антанты, или предать их, после следствия, «справедливому суду». Но в июне 1918 г. Тобольск захватили белогвардейцы (БСЭ, т. 42, стр. 531). В предвидении этого большевики из Тобольска перевели царскую семью ближе к центру, в Екатеринбург. Если бы большевики хотели уничтожить без суда царскую семью, то у них в это время было много возможностей. Никто не смог бы установить истинную причину её гибели – путь от Тобольска до Екатеринбурга длинный – всяко в дороге с ними могло случиться.
По настояниям различных эмиссаров Антанты, мятежный чехословацкий корпус двинулся на Екатеринбург с востока. Его поддержали отряды белогвардейцев. Пошли добывать себе славу «спасителей» царской семьи и превращения тем самым царя в знамя борьбы с революционным народом. По человечески жаль эту семью – ею обе стороны (и революция, и контрреволюция) играли как мячиком по всей стране, во имя своих политических интересов. При этом приспешники Антанты действовали беспроигрышно. При любом исходе дела политический выигрыш был за наступающими: мятежным корпусом и белогвардейцами. Это было, по существу, провокацией. Революционное правительство было поставлено ими в положение политического цугцванга. Так называют позицию в шахматной игре, когда любой ход противника приводит к проигрышу.
Революционное правительство не могло допустить, чтобы царь превратился в знамя контрреволюции. Но и уничтожение без суда всей царской семьи не сулило ничего хорошего: только полную политическую изоляцию и обострение борьбы с «цареубийцами».
25 июля 1918 года мятежники все же вошли в Екатеринбург, и губернский ревком до их прихода вынужден был, из-за угрозы захвата города ими и белогвардейцами, 17 июля расстрелять всю царскую семью. А далее проявился эффект домино. Всех их родственников, доступных «услужливым дуракам» на местах, перебили «во имя р-р-революции». В циничной политической борьбе мало ценится любая человеческая жизнь.
Теперь внуки этих политических провокаторов льют крокодиловы слёзы по «невинно убиенным», стараясь не напоминать о суровых законах и логике праведной или неправедной революционной борьбы.
Но тогда мятежникам этого показалось мало. 7 августа мятежный чехословацкий корпус ворвался в Казань, изъяв из кладовых банка весь хранившийся там золотой запас России.
Колчак, к этому время приехавший из Америки, примкнул к «Уфимской директории». Было и такое временное правительство России. Находилось оно в Омске. Под давлением эмиссаров западных стран, находившихся там же, «директория» согласилась с необходимостью введения военной диктатуры в России. И 18 ноября 1918 года Колчак разогнал «директорию» и объявил себя диктатором – «Верховным правителем России». Западные страны поспешили признать этот государственный переворот «законным», заявив о его полной поддержке. В это время, возможно, и было передано Колчаку золото России мятежными чехословацкими легионерами.
Действия этих мятежников полностью изменили военно-политический ландшафт нашей Родины. Пособничество Колчаку мятежного Чехословацкого корпуса и стало тем бикфордовым шнуром, который запалил пламя гражданской войны в Поволжье и Сибири.
Когда говорят о хорошем оснащении Антантой колчаковских войск, то забывают, что она делала это небескорыстно. 11,5 тысячи пудов золота России только до мая 1919 года было потрачено на его закупку.[83] И словно вороньё слетелось на добычу: 150 тонн золота до 1920 года уплыло за границу. Этим золотом и оплачивалась гражданская война в Сибири – вся её кровь и все её страдания. Русское золото позволило Колчаку собраться с силами и предпринять в течение 1918 и 1919 годов наступление, захватить Пермь и дойти почти до Волги. Было чудом, что красные войска,- под командованием М.В. Фрунзе, - своим контрнаступлением переломили ход войны и отогнали Колчака, нанеся его войскам несколько крупных поражений.
После поражения под Омском 10 ноября 1919 года Колчак предал свои войска: сбежал из Омска к чехам. Сбежал не с пустыми пуками – с остатками золотого запаса России и вагонами, нагруженными различным армейским снаряжением и ценностями. И его вагоны затерялись среди бесчисленных эшелонов мятежников. Колчак и его начальник штаба генерал Пепеляев, бросив свои войска, надеялись у чехов найти себе защиту, или попытаться купить её. Пустыми были эти хлопоты.
4 января 1920 г. начались телеграфные переговоры генерал-лейтенанта Зеневича со штабом 30-й дивизии 5-й армии красных о сдаче в плен красным около 60-ти тысяч солдат Белой Армии в районе Красноярска. В тот же день, находясь у чехов в Иркутске, Колчак отрекся от звания «Верховный правитель России», и тем подтвердил факт бегства от своих войск. Теперь напрасно пытаются обелить беглеца. Такой поступок позорит любого командира, начиная от взводного, не говоря уже о командующем. И Колчак попал в ловушку, сделавшись заложником у чехов. После поражения 15 января под Канском и Нижнеудинском чехи передали бывшего «верховного» эсеровскому «Политическому центру» (БСЭ, том 33, стр. 589). «Центр» просуществовал только до 21 января. И снова Колчак у чехов. 6 февраля 1920 года под станцией Зима чешские легионеры потерпели еще одно поражение и вынуждены были начать переговоры о перемирии с частями Красной Армии. И здесь теряются следы золота России.
7 февраля на станции Куйтун такое соглашение о перемирии было подписано. И в это же самое время начался торг чехов с Иркутским ревкомом. В результате чехи просто выменяли Колчака и Пепеляева у Иркутского ревкома на паровозы, топливо и возможность уйти из Иркутска. В ночь на 7 февраля 1920 г., по решению Иркутского ревкома, на льду маленького притока Ангары были расстреляны адмирал Колчак и генерал Пепеляев. Говорят, Колчак перед расстрелом вел себя с достоинством. Но что ему оставалось? Честь надо было беречь раньше.
Колчак был расстрелян в результате прямого предательства его чехами. Что тут странного? Предать предателя – не великий грех.
Не сдавшиеся части Белой Армии – каппелевцы – попытались было пробиться в Иркутск и освободить Колчака, но не хватило сил. Узнав о его расстреле, они по льду Байкала ушли в Забайкалье. Части Красной Армии заняли Иркутск только 7 марта 1920 г., и поспешный расстрел Колчака и Пепеляева решением Иркутского ревкома можно объяснить либо сложной оперативной обстановкой, либо анархистскими настроениями, бытовавшими в то время на бескрайних просторах Сибири.
Работая в РГВА, я держал в руках ленты телеграфных буквопечатающих аппаратов Юза с упомянутыми переговорами и другие документы того времени, но не придал им особого значения. Шумиха политиканов вокруг имени Колчака, фигуры крайне неоднозначной, заставила вернуться к этой теме. И напрасно они его поднимают на щит и рядят в белоснежные одежды праведника: мундир адмирала запятнан кровью бесчисленных виновных и невинных, замученных с невиданной жестокостью.
Вот пример этого. При наступлении на Пермь и Урал, после овладения Екатеринбургом зимой 1918/19 годов, в городе и вокруг него колчаковцами, по некоторым источникам, было расстреляно более 20 тысяч человек! Вот кому бы ставить памятники: расстрелянным, повешенным, запоротым до смерти шомполами, сброшенным живыми под винты байкальских пароходов! Отдавая должное их памяти, мы хотя бы частично попытались искупить нашу вину за вечную российскую необъяснимую крайность: «Казнить так казнить, миловать, так миловать». Ведь вся вина этих несчастных жертв колчаковщины состояла только в том, что они всерьез принимали лозунг «Отречемся от старого мира» и не хотели жить по- прежнему, по старому полицейскому, ненавистному режиму, олицетворением которого и был адмирал Колчак.
При изучении документов сборника «В боях рожденная» выяснилось, что военачальниками в Красной Армии были в основном не «народные самородки», а бывшие царские генералы и офицеры.
Кто-то подметил, что в гражданской воевали друг против друга две части одной армии. «Полевое управление и штаб армии укомплектовывались опытными командными и штабными работниками: из одиннадцати командующих армией четыре, а из десяти начальников штабов семь окончили в разное время Академию Генерального Штаба старой армии» («В боях рожденная, с.5). Они, перешедшие на сторону революции, и руководили сражениями гражданской войны, они, чей военный талант проявился на стороне Красной Армии. И это они и руководимые ими войска погнали, начиная от Уфы и Петропавловска, и дальше до Байкала части колчаковцев, деморализованных в результате поражений, панически боявшихся настоящих боевых столкновений с войсками Красной Армии. Это они разгромили интервентов, слетевшихся, словно вороны, на Россию «от шестнадцати разных сторон», и банды националистов.
Разбитые, потерявшие веру в победу, войска Колчака не могли справиться и с другой напастью – эпидемией сыпного тифа – вечным, грозным божьим бичом войск, потерпевших поражение. Им было уже не до соблюдения личной гигиены и санитарии. Сыпняк теперь наносил урон ничуть не меньший, чем боевые столкновения с красными. У красных же появился ещё один союзник. Давно известно, что победоносные войска менее подвержены подобным эпидемиям и быстрей справляются с ними, коль они возникают. Вот оно, ещё одно проявление высоты человеческого духа, дающее победителю чувство превосходства над противником и умножающее его силы. Так сплав революционного порыва войск и умелого, талантливого управления совершили чудо – разгром хорошо оснащенной Белой Армии и иностранных войск.
И не только это сделали люди, которых называли военспецами. В этих сражениях воспитались будущие замечательные полководцы Советской Армии К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский, В.И. Чуйков, Н.И. Крылов, М.Н. Тухачевский, В.К. Блюхер, И.С. Конев и другие. Все они прошли школу 5-й армии.
А кто потом вспомнил командующих Красными Армиями на фронтах гражданской войны. Кто вспомнил, например, командарма Матиясевича или его начштаба Кутырева? Подлое политиканство закрыло эти имена для истории. В приказах этих генералов удивляет ясность и четкость указаний, военная конкретность решений.
Документы сборника прояснили местонахождение частей 51-й дивизии на заключительном этапе боев с Колчаком под Иркутском. В связи с упразднением Восточного фронта и расформированием 3-й армии, в которую входили 30-я и 51-я дивизии, с 15 января 1920 года обе дивизии влились в состав Первой революционной армии труда, а в военном отношении в состав 5-й армии, получившей новое наименование: 5-я Отдельная армии. И, естественно, дивизии подчинялись армейскому командованию. 51-ой приказом от 21 февраля 1920 г. предписывалось сосредоточиться в районе Нижнеудинска. Вскоре армия получает приказ от 7 апреля 1920 г. «о подготовке к возможным активным действиям японцев в Забайкалье». В нем говорилось: «Начдивам 30, 35, 51 принять срочные меры по приведению дивизий в боеспособный вид… Иметь в виду выдвижение… 51-ой дивизии в район Иркутска, приказ о чем последует дополнительно».[84] Этот документ в дальнейшем дополняется и конкретизируется другими приказами «о перегруппировке для прикрытия путей, ведущих к Байкалу, со стороны Забайкалья и Монголии». А приказом №316 от 25.06.1020 г. «ввиду получения 51 дивизией нового назначения и необходимости ее сосредоточенного расположения» была отменена прежняя директива о сосредоточении дивизии в районе Нижнеудинска. Приказом командарма Матиясевича и РВС армии Позерна начдиву-51 предписывалось «подтянуть части к линии железной дороги, расположив одну бригаду в районе Усть-Балей-Александровский, выдвинув от нее один полк на станцию Зима, другую бригаду – в район Сухая – Фабрика Тельминская и третью в район Черемховское-Кутульминское. Продолжать работы согласно ранее полученным указаниям. Перегруппировку закончить к 1 июля».[85]
Этот документ до предела сужает район поисков и позволяет говорить о том, что именно в этих местах и именно в это время попал в беду полк Семена Андреевича. Приказ не расшифровывает, какие «работы согласно ранее полученным указаниям» необходимо продолжать. Думаю, что это были работы по восстановлению народного хозяйства, которые ранее вела Трудармия.
Желание вникнуть в жизнь народа Сибири в годы гражданской войны, без знания которой невозможно понять ход и движущие пружины событий, заставили меня окунуться и занырнуть в омут исторических трудов того времени. В попытках найти прежнее название селения «Семеновский» я просмотрел много дореволюционных изданий: справочников, атласов, географических описаний, описаний путешествий и старых карт. И все напрасно. Но случай, и… в поле зрения мне попал интереснейший труд американца Джорджа Кеннана в двух томах «Сибирь!».[86] Этот труд не дал ответ на поиск прежнего названия селения, но зато дал потрясающую и самую красноречивую оценку жизни каторжан в Сибири.
И не зря в заголовке «Сибирь!» поставлен восклицательный знак. Может показаться, что обращение к содержанию этой книги уводит наше повествование в сторону. Но, внимательно изучив её, я пришел к убеждению, что без знания того, что описано в этих томиках, невозможно нам понять особенности гражданской войны в Сибири, понять, кто и почему в ней участвовал, каковы нравственные посылы обеих сторон. Понять ее ход и понять причины, почему белые ее проиграли, при всём их превосходстве в вооружении, оснащении и финансах – золоте России. И все это притом, что ведь книга-то не о войне. Но она гражданскую войну предвосхищала и убеждала: как сильно не сжимай пружину, распрямляясь, она может очень больно ударить.
Труд этот особенно ценен потому, что написан не российским гражданином, а американцем и, как он о себе сам говорит, первоначально защитником царского правительства от нападок и наветов на него со стороны «нигилистов» за жестокость и несправедливость ссылки и каторги. И объясняет, как под напором фактов и жестокой действительности он превратился в сурового критика политики царского правительства. А нам дает объективное и убедительное объяснение всему им увиденному в длительной экспедиции по Российской империи.
Джордж Кеннан был в России до этого не раз, подолгу жил в ней, так что «развесистых клюкв» в этом труде нет. Его экспедиция по Восточной Сибири началась в 1885 году, финансировалась журналом «Century Magazin» и ставила целью изучение условий жизни ссыльных и каторжан.
Издание в России этих своеобразных путевых заметок экспедиции стало возможным (в переводе с немецкого) только в революционных условиях 1906 года. Эти два томика стали гневным обвинением политики царского правительства, громкой оплеухой ему, своего рода «Архипелагом Гулаг» царского времени. Вот несколько цитат из этого труда.
«Наш кучер вдруг остановил своих лошадей и сказал: «Здесь граница»... Это был пограничный столб Сибири.
Ни с одним из пунктов между Петербургом и Тихим океаном не связывается столько мучительных воспоминаний; ни один из пунктов не внушает путешественникам более грустного интереса, чем эта маленькая просека с освещенным скорбью столбом. Сотни человеческих существ, мужчин, женщин и детей, князей, дворян и крестьян простились здесь со своими друзьями, отечеством и родимой землей.Ни один из пограничных камней в целом свете не был свидетелем такой тьмы человеческих страданий; нет ни одного, мимо которого прошли бы бесчисленное множество жизней с разбитыми сердцами» (Т. 1, стр.23).
Приводимую ниже цитату – картину прощания с родиной – невозможно читать без волнения:
«Так как пограничный камень лежит на половине пути между последним европейским и первым сибирским этапом, то обыкновенно здесь позволяли арестантам отдохнуть и сказать родине, отечеству последнее «прости».
Русский крестьянин, даже и преступник, одушевлен глубокой любовью к отечеству, и у пограничного камня часто разыгрывались самые душу раздирающие сцены.
Многие безудержно предавались своей скорби, рыдали; некоторые падали на колени и прижимали свое лицо к дорогой земле родины, или целовали холодный кирпичный столб, как будто он был символом всего любимого, что он оставляет позади себя.
«Стройтесь в ряды», раздается строгий приказ унтер-офицера, который ведет колонну.
По команде «вперед марш» ссыльные поспешно крестятся, и под бренчанье цепей процессия медленно двигается через границу Сибири» (Т. 1, стр. 23).
Мой дорогой читатель, хватило у тебя духу прочесть все это? Но далее картины, описываемые автором, будут еще красноречивей и печальнее (т.1, стр. 179):
«От Камышетской до Иркутска мы ехали день и ночь (на лошадях. – Н.В.), делая иногда остановки лишь для того, чтобы осмотреть этап (так он называет пересыльные тюрьмы для арестантов. – Н.В.) или посмотреть на арестантов, которые, печально звеня цепями, медленно двигались под проливным дождем».
«Во время пути между Томском и Иркутском мне не раз приходилось видеть этих несчастных, двигающихся под проливным дождем или палящим солнцем; я осматривал этапы, куда их загоняют на ночь, словно скот; посещал лазареты, где они лежат иногда неделями без врачебной помощи и надлежащего ухода…
Некоторые партии арестантов употребляют два месяца на то, чтобы пройти расстояние, на которое нам требовалась одна неделя; и все они добираются до места своего назначения лишь глубокой зимой… Муки и унижения, связанные для арестантов с путешествием по Сибирскому тракту трудно даже вообразить».
«В результате моих исследований, я пришел к выводу, что практикуемая система ссылки в Сибирь влечет за собой такие страдания, которые невозможны ни в одной цивилизованной стране, кроме России» (выделено мной. – Н.В.).
В книге много раз подчеркивается, что симпатия автора на стороне русского народа. После контактов с политкаторжанами и политическими ссыльными, так называемыми государственными преступниками, он стал симпатизировать и им, и несправедливо осужденным каторжникам, словом, всем страждущим сторонам в Восточной Сибири:
«К России и русскому народу я питаю самую горячую любовь и симпатию; если бы мне удалось путем убедительного и хорошо обоснованного отчета о результатах моих исследований ближе ознакомить общество с этой страной и народом и хотя сколько-нибудь облегчить участь тех несчастных, для которых «Бог слишком высоко, а царь слишком далеко», то это было бы для меня лучшей наградой за трудное путешествие и за самые тяжелые переживания моей жизни».
Чтобы попытаться показать читателю, что такое каторжник в кандалах, я пересмотрел много рисунков и фотографий. Но все, попавшие мои руки, давали представление о поздних годах существования каторги. И не относились к тем годам, когда автор «Сибири!» был на её просторах, полных горя и каторжных страданий.
Без большой надежды я обратился за помощью в ГАПО. И там мне подсказали, что у них в фотофонде хранится «Фотоальбом №1» с фотоснимками «Сахалинской каторги», и они, возможно, будут мне интересны.
Это оказалось тем, что мне было нужно. В фотоальбоме хранится более сотни фотографий, сделанных иностранцем или для иностранцев – комментарий к ним (подрисуночные надписи) на английском языке. Отобрал две: заковывание каторжника в кандалы и каторжники, прикованные к тачкам. Подобные картины мог наблюдать автор «Сибири!». Это время его экспедиции.

Общество не могло безропотно мириться с этим каторжным миропорядком. Это нашло отражение в литературе, например, у писателя народовольца Степняка (Кравчинского), Некрасова и других, в песенном фольклоре того времени. Как, например, в песне, которую я приведу, перешедшей от народовольцев к эсерам, а потом и к большевикам:
Спускается солнце за степи,
Вдали серебриться ковыль,
Колодников звонкие цепи[87]
Взметают дорожную пыль.
Динь-дон, динь-дон, слышен звон кандальный,
Динь-дон, динь-дон, – путь сибирский дальний.
Динь-дон, динь-дон: слышно: там идут,
Нашего товарища на каторгу ведут.
Идут они с бритыми лбами,
Шагая вперед тяжело…
Не случайно в русской национальной песенной культуре существует целый пласт народных каторжных песен: «Славное море священный Байкал», «Глухой неведомой тайгою», «По диким степям Забайкалья», «Далеко, далеко степь за Волгу ушла», «Не слышно шума городского», или такое:
Бубновые валеты,[88]
И пара котов,[89]
Кандалы надеты –
Я в Сибирь готов.
И другие песни о каторге и воле. Слова этих песен имеют авторов, но народ сделал их своими, народными, и в этих невеселых песнях передал нам память о том времени. Ни одна национальная культура не имеет подобных песен, и иностранцам иногда трудно понять нашу любовь и приверженность к ним, этим, по их понятиям, разбойным песням.
Воздух Сибири был пропитан духом каторги. И никакие революции не могли в одночасье выветрить его. Никакие взрывы гражданской войны не могли заглушить звон кандалов, висевший ранее над всей Сибирью.
«Нервное раздражение, охватившее нас и не покидавшее уже до переезда сибирской границы на обратном пути в Петербург, часто было трудней переносить, чем холод, голод и усталость.
Кто смог бы остаться равнодушным к тем страданиям, которые мы видели в «балаганах» и в госпитале пересыльной Томской тюрьмы; кто смог бы выслушивать без сердечного содрогания такие рассказы, какие мы слышали от политических ссыльных в Томске, Красноярске, Иркутске и Забайкалье.
Я помню бледную, печальную, слабую женщину, которая была сослана в Восточную Сибирь и там смертельно заболела. Она хотела во что бы то ни стало сообщить о своих испытаниях, хотя я охотно избавил бы ее от пытки еще раз переживать свое трагическое прошлое. «Мир должен узнать от меня, что переживают русские прежде чем делаются террористами», и я услышал прерываемую слезами, рыданиями историю жизни, самую тяжелую из всех слышанных мною когда-либо.
После таких встреч, а их было много, я не находил себе покоя, лишался сна».[90]
Большая часть ссыльных оседала в Сибири. Было этих поселенцев два слоя: политические и уголовные. Так царское правительство сделало из Сибири за полтора столетия тюрьму или огромное поселение из каторжных уголовных и политических ссыльных. Со своим пониманием у них и справедливости, и нравственности, и своим отношением к власти. А огромные пространства Сибири сделали характеры ее жителей вольнолюбивыми и независимыми.
«Царь может замуровать таких людей… в уединенные казематы своих крепостей, где седеют волосы; может отправлять их в Сибирь в серых арестантских халатах, но наступит время, когда в летописях истории их имена прозвучат громче, чем его имя; когда воспоминания о их жизни и страданиях, будет служить источником геройского воодушевления для всех русских, любящих свободу и родину».[91]
К таким суровым выводам приходит автор «Сибири!», а нас его труд заставляет вдумчивей отнестись к причинам наших революций и ходу гражданской войны.
Можно смело сказать (еще раз повторю), что без знания содержания этих двух томиков невозможно понять нам нравственные посылы борьбы сторон в революции и гражданской войне в Сибири; невозможно понять, почему в тылу белых возникли две враждебные им партизанские армии по 10-15 тысяч человек каждая.
Впрочем, что ж в этом удивительного: ведь еще были живы страдальцы, протащившие на своих руках и ногах кандалы по бесконечным сибирским каторжным этапам. И далеко, далеко не все заслужили, по их понятиям, эту кару.
Невольно на ум приходит: если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума, если хочет убить человека – лишает нравственной поддержки. Только этим можно объяснить недальновидность адмирала Александра Васильевича Колчака, говорят, неплохого исследователя Севера, но не сумевшего понять, что Гражданская в Сибири белыми проиграна задолго до ее начала. Не хватило у него воображения в его трагической ипостаси и понимания того, какую роль могут играть в Сибири белые.
А они могут играть только роль садиста, бывшего тюремного надзирателя, посаженного в одну камеру с заключенными, которых он раньше истязал и собирается истязать дальше. И не было и не будет у них никакого спасения.
Гневное оружие Нравственности стреляет и далеко, и метко, и это еще один ее урок. Не зря об этом постоянно твердит Толстой в «Войне и мире».
Мне, свидетелю жизни сталинских спецпереселенцев в Акмолинске (теперь это город Астана), невольно приходит на ум удивительное сходство со ссыльными в царские времена. Ничто не ново под Луною. Все то же, только с другим знаком и также безнравственно. Спецпереселенцами (а на самом деле ссыльными) были люди, единственной виной которых стала их национальность: ингуши, чеченцы, балкарцы, немцы Поволжья и другие. А также русские: бывшие военнопленные, бывшие работники Министерства иностранных дел, и Внешторга, бывшие военные атташе. Вся их «вина» – недоказанное подозрение в «шпионаже». Таков интернационал спецпереселенцев. Круг жизни их был строго очерчен, и выход за него грозил серьезным уголовным преследованием.
Следом за революциями часто приходит революционный террор. Выражение «враг народа» придумано не в России. Оно родилось еще в древних Афинах и Риме. Его развила Французская революция и изобрела способ «лечения» этого «порока» с помощью гильотины. Россия применила опыт французов «с русским размахом и американской деловитостью». И скатилась в тоталитаризм, так и не достигнув высоты духа и нравственности его двойника – социализма.
А теперь, возвращаясь к трагедии моего деда Семена Андреевича, мы все же не можем сказать, кто же, напав внезапно на полк, занятый мирными крестьянскими делами, разгромил его и казнил пленных. Вот что выясняется при изучении документов сборника «В боях рожденная». 15 декабря 1919 г. реввоенсовет 5-й армии издал «постановление об отношении к партизанским отрядам». Из него следовало, что в партизанской среде есть много случаев проявления анархистских настроений, и необходимо принять меры для исключения «махновщины». Так это там и названо. «Постановление» дает указание, что «людской состав партизанских отрядов может служить только материалом для переработки».
Среди партизанских отрядов в Сибири бывали иногда просто обыкновенные банды, и борьба красных с ними велась так же, как и с белогвардейцами. Между прочим, в «постановлении» содержится и такое указание: «Нужно награждать партизан, отличившихся в борьбе с белыми, а запятнавших себя бандитизмом и мародерством предавать суду ревтрибуналов и карать по всей строгости революционных законов, как бы ни старались они выказать себя красными партизанами». Чем «партизаны», естественно, были недовольны и отвечали враждебными вылазками против регулярных частей Красной Армии. Имея среди населения агентуру, они могли напасть на полк, занятый мирными делами, в самый удобный для них момент. Правда, нельзя исключить и того, что полк подвергся нападению отряда бывшей армии Колчака, бродившего по тайге.
Теперь после изучения документов из сборника «В боях рождённая» район поиска места гибели полка сузился до очень маленького пространства в Иркутской губернии, района станции Зима.
В Пензенской областной лермонтовской библиотеке нашелся атлас с картами Иркутской области, изданный в 1962 г. Рассматривая на карте с помощью лупы окрестности станции Зима, я обнаружил селение под названием Семеновский. В отличие от экзотических сибирских названий окрестных сел, это явное новообразование и, видимо, раньше называлось по другому.
Район станции Зима. Юго-восточнее неё, приблизительно в 40 километрах станция Тыреть, стоящая на пересечении железной дороги и реки Унга. От станции Тыреть восточнее, ниже по течению реки Унга, при впадении в неё слева реки Куйта, находится селение Семеновский, Нукутского района, Усть-Ордынского Бурятского Национального округа.
По автодороге Тыреть – Тангуты от станции Тыреть до Семеновского всего около 15 километров. Но как же долго я шел к нему! И все же это лишь предположение! И не более того. А мы все, и семья твоя и твои потомки, сделали всё, чтобы память о тебе, безвестно пропавшем Семёне Андреевиче Матвееве, не стёрлась из памяти людской. Мир праху твоему!
◊◊◊
Гражданские войны – самая жестокая разновидность войн. Они не знают ни границ нравственных, ни границ милосердных. И наивно полагать, что они возникают по призыву вождей. Такие войны – плод уродливого развития внутри общества двух непримиримых, взаимоисключающих, экономических и нравственных идеалов. И тогда на одной земле и у одной Матери-родины начинают жить и ненавидеть друг друга две части одного народа. В один роковой миг даже малая искра неизбежно родит большой пожар. И тогда фронты пройдут через губернии, города, села, семьи, через нас самих, и сердце каждого. Вырвется из души народа, как из реактора, ядерная энергия гнева. Лозунги, обещающие завоевание справедливости, поднимут и сплотят единомышленников, и родят непобедимых полководцев. И эта энергия сокрушит все, что ей мешает. И обернется потоками крови и неисчислимыми бедствиями для самого народа.
Почти все народы прошли через это. Так было в Англии, Франции, Америке, Италии, Китае и многих других странах. И Россия в 1918–1921 годах в этом смысле не является уникальной страной. Она просто испила до дна свою горькую чашу. От этой беды невозможно спастись ни заклинаниями политиков, ни парламентским шаманством, ни нашими надеждами и упованиями на силу «демократии». Стараниями различных проходимцев она приспосабливается к их потребностям, далеким от настоящих нужд общества. И дает возможность негодяям манипулировать сознанием общества. И они эти возможности используют, как использовали до них во всем мире. И ещё как! Их использовал Гитлер, пришедший к власти вполне «демократическим» путем.
И дай бог, чтобы все, кому предстоит еще жить в России, поняли, что предпосылки для подобных потрясений у нас уже есть. Невиданная всеобъемлющая коррупция и подкуп государственных и судебных властей – рай для различных жуликов и воров. Вылезли и родились заново сословия олигархической и компрадорской буржуазии, которые могут жить только за счет ограбления национальных богатств Родины. И существует отторгнутый от этих богатств народ, который всё это видит и пока молчит.
Но недовольство народа этим порядком вещей уже проявляется в виде уродливых профашистских, националистических выступлений и бунтов по всему пространству нашей, ранее великой, Родины. Как следствие этого, кризис нравственности и идеалов общества: все против всех.
Это пока только слабые подземные толчки. Не дожидайтесь извержения вулканов народного гнева.
Пора, пора подумать о будущем, пора подумать, как избежать подобных потрясений. России не подходит – что уже хорошо видно – олигархический путь развития, и она уже переросла прелести казарменного социализма (тоталитаризма).
Молодые, найдите же безопасный путь между этими Сциллами и Харибдами!
1993 – 2011 г.г.
Оглавление
Вместо предисловия (М.С. Полубояров) ………………………………… 3
От автора……………………………………………………………………. 6
Первые воспоминания……………………………………………………… 8
Арти. Урал тридцатого года……………………………………………….. 13
Щепотьево…………………………………………………………………... 16
Семейные легенды и родословная пращуров рода Вырыпаевых……….. 22
Под парусами Надежды в волнах документального моря………………...24
Новая эпоха, новые слова, новые понятия………………………………… 33
Судьбы щепотьевских прародителей……………………………………… 41
Какие фамилии мы наследуем…………………………………………... 50
На пустынных берегах неведомой речки………………………………….. 57
Легенда о моем деде Андрее Ивановиче Вырыпаеве…………………….. 65
Вёхово……………………………………………………………………….. 84
Валенки, блинцы и «жаворонки»………………………………………….. 89
Саратов……… ……………………………………………………………… 93
Пенза ………………………………………………………………………… 94
Рукопись, найденная в сарае……………………………………………….. 97
Шафтель……………………………………………………………………..103
Бабусины университеты……………………………………………………106
Наши шафтельские пращуры…………………………………………….. 110
Подсот и наши подсотские пращуры……………………………………. 122
Легенда и трагедия деда Семена Андреевича Матвеева………………... 127
Приложение